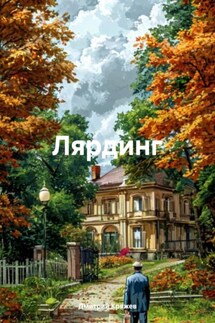Октябрический режим. Том 2 - страница 52
Владыка выражал веру в то, что революция не уничтожила в народе нравственное чувство. «…я верю, что эта зараза проникла не глубоко в недра народной жизни, что она еще только на поверхности этой жизни, что настанет время, когда эта грязная накипь смоется с лица народной жизни, и она уже отчасти смывается, и опять заблестит тогда, как золото, душа народная, чистая, прекрасная и правдивая. Ведь нет, гг., страны, более чуткой к нравственным требованиям, чем наша святая Русь». Интеллигенция же нравственно пострадала от революции гораздо сильнее. «…посмотрите, разве революция не оставила своего следа среди интеллигенции, разве в настоящее время среди интеллигенции не перепутались нравственные понятия, разве не распространяется с ужасающей быстротой и безбожие, и легкость нравов среди интеллигенции, разве не привились в интеллигентной среде воззрения Ницше и Горького с оправданием святого эгоизма и святой плоти, со всей этой моралью «по ту сторону добра и зла?»».
Итак, только союз крестьянства и интеллигенции позволит осуществить «великое дело» правосудия.
Еп. Митрофан, отстаивая введение в состав суда местных представителей, видел кадры для них в старых учителях на пенсии, в нарождающейся сельской интеллигенции – крестьянах, получивших среднее образование. «Да, вообще, странно говорить, что восьмидесятимиллионный народ не нашел бы среди себя лиц, способных к этому нехитрому делу разбирательства мелких тяжебных дел. Г. Министр Юстиции говорил здесь о необходимости верить в творческие силы народа. А что, гг., если бы мы серьезно, на самом деле, поверили народу и дали ему возможность доказать на деле, к чему он способен? Верьте, что он оправдал бы наше доверие. Не сделать же этого – значит показать полное отсутствие в себе веры в народ, а тогда можно ли трудиться, можно ли законодательствовать?».
«Конечно, – говорил владыка, – в высшей степени ценно, что образованная интеллигенция готова идти к своему меньшему брату с горячим желанием осветить его темный быт, помочь ему и руководить им; но было бы, конечно, вдвойне лучше, если бы навстречу ей из среды народа выступили ей помощники и сотрудники. В общей работе они скорее поняли бы друг друга и слились бы в тесный органический союз. Вот тогда на самом деле произошло бы единение всех в одном общем государственном деле».
Выступая против гминного суда, министр юстиции Щегловитов произнес длинную речь-лекцию, изобиловавшую цифрами, историческими сведениями и другими фактами. Убедительная речь была направлена против трех типов судей, которые противники законопроекта признавали за образец: гминного суда в Царстве Польском, волостного суда в прибалтийских губерниях, суда шеффенов в Европе.
По словам Министра, гминный суд в губерниях Царства Польского действовал успешно по той причине, что там нет выборных общественных должностей и образованные лица идут в гминные суды. Однако лавники – те самые два малообразованные заседателя – играют в таком суде пассивную роль, находясь под влиянием образованного судьи-председателя или писаря. В волостных судах прибалтийских губерний тоже верховодит писарь. Наконец, относительно шеффенов Министр привел характеристику одного немецкого ученого: это лица «поддакивающие или хорошо дремлющие».
Ту же самую мысль немного ранее высказывал кн. Тенишев. В Царстве Польском, говорил он, население более образованно. Если перенести гминный суд на нашу почву, то «очевидно, что председатель, как более культурный, господствовал бы над заседателями, менее культурными». Создались бы «молчащие заседатели», которые говорили бы только тогда, когда затронуты крестьянские интересы, т. е. не беспристрастно.