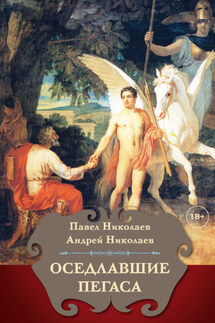Оседлавшие Пегаса - страница 42
В ноябре 1799 года победоносный генерал стал первым консулом Французской республики, а через пять лет – императором. К этим событиям относится упоминание Пушкина о жезле диктатора. На это надо заметить, что формально вопрос о провозглашении империи решался по результатам плебисцита (всенародного голосования).
Конечно, не случайно Москва упомянута в стихотворении именно в день вступления в неё Великой армии. Неприятель входил в старую столицу России с музыкой и барабанным боем. Полковые оркестры играли марши, часто звучала «Марсельеза», которая призывала солдат и офицеров Франции:
Многие солдаты и офицеры знали слова революционного гимна, звавшего когда-то французов на защиту республики. А кого они пришли защищать в Москву? Кто угрожает им? Их семьям? Кто несёт им рабство? Несмотря на торжественность момента, настроение в рядах победителей было напряжённым. Граф Сегюр вспоминал: «Ни один москвич не показывался, ни одной струйки дыма не поднималось из труб домов, ни малейшего шума не доносилось из этого обширного и многолюдного города. Казалось, как будто 300 тысяч жителей точно по волшебству были поражены немой неподвижностью. Это было молчание пустыни!»
Тревожное состояние покорителей Европы передаёт офицер Цезарь де Ложье: «Молча, в порядке, проходим мы по длинным пустынным улицам; глухим эхом отдаётся барабанный бой от стен пустых домов. Мы тщетно стараемся казаться спокойными, но на душе у нас неспокойно: нам кажется, что должно случиться что-то необыкновенное. Мы нигде не видим ни одного русского. Страх наш вырастает с каждым шагом: он доходит до высшей точки, когда мы видим вдали, над центром города, густой столб дыма».
…На картину жизни завоевателя, нарисованную другом, поэт ответил полным отрицанием:
То есть ни воинская слава, ни его восхождение от безвестного лейтенанта до полноправного члена семьи одного из старейших монархических родов Европы (Габсбургов), ни трагический конец столь феноменальной карьеры особенно поэта не вдохновляли. Так что же возбуждало у него особый интерес, кого он назвал героем?
Это случилось при возвращении армии Наполеона из Сирии в Египет. Пушкин узнал об этом эпизоде войны из «Мемуаров» Бурьена, выходивших в 1829–1830 годах. Описание страшной болезни, поразившей французов, живо напомнило Александру Сергеевичу о собственных наблюдениях, сделанных во время путешествия в Арзрум: