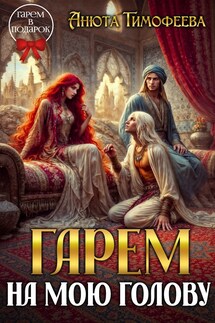Основы истории философии. Том 4. Часть 1. Философия современности - страница 66
§8. Шопенгауэр
В тесной связи с Кантом, отвергая послекантовскую спекуляцию, Артур Шопенгауэр (1788—1860) разработал учение, которое можно охарактеризовать как переходную форму от кантовского идеализма к господствующему в настоящее время реализму. Хотя он, подобно Канту, приписывает пространству, времени и категориям (среди которых категория причинности является фундаментальной) лишь субъективное происхождение и ограниченную значимость для явлений, которые суть лишь представления субъекта, однако независимую от нашего представления реальность он, в отличие от Канта, не считает непознаваемой, а находит её в воле, полностью известной нам благодаря внутреннему восприятию. При этом он запутывается в противоречии, так как, если и не пространственность, то по крайней мере временность и причинность вместе со всеми связанными с ними категориями он не может избежать применения к воле, которой он их принципиально отрицает, при разработке своего учения. Это противоречие делает его доктрину неспособной к последовательному систематическому осуществлению и опровергает её саму.
По Шопенгауэру, реальное само по себе не может быть названо трансцендентальным объектом, ибо нет объекта без субъекта; все объекты суть лишь представления субъекта, то есть явления. Понятие воли Шопенгауэр берёт в смысле, далеко выходящем за пределы обычного словоупотребления, понимая под ним не только сознательное желание, но и бессознательное влечение вплоть до сил, проявляющихся в неорганической природе.
Между единством воли вообще и индивидами, в которых она проявляется, Шопенгауэр (подобно Шеллингу, помещавшему между единством субстанции и множественностью индивидов идеи) вслед за Платоном помещает идеи как реальные виды. Идеи суть ступени объективации воли. Каждый организм показывает идею, образом которой он является, лишь за вычетом той части силы, которая тратится на преодоление низших идей. Чистое изображение идей в индивидуальных формах есть искусство. Лишь на высших ступенях объективации воли возникает сознание. Всякий интеллект изначально служит воле к жизни. В гении он освобождается от этого служения и приобретает преобладание.
Признавая в отрицании низкого, чувственного влечения прогресс, но не будучи в силу верности своему принципу, ограничивающему истинную реальность волей, обозначить этот прогресс позитивно как достигнутое господство разума, Шопенгауэр может предложить лишь негативную этику. Он требует прежде всего сострадания к страданию, связанному со всеми объективациями воли к жизни, поскольку воля всегда есть нужда, и постоянное удовлетворение невозможно. Однако высшей ступенью нравственности является умерщвление – не жизни, а именно – воли к жизни в нас самих через аскезу. Мир – не лучший, а худший из всех возможных миров, что выражает крайний пессимизм. Сострадание облегчает страдание, аскеза же устраняет его через упразднение воли к жизни посреди жизни. Благодаря отрицанию чувственности без позитивного определения духовной цели учение Шопенгауэра сближается с буддийской доктриной нирваны – блаженного конечного состояния святых, очищенных аскезой и погрузившихся в бессознательность, – а также с теми формами монашеской аскезы в христианстве, которые Новое время преодолело через устранение этического дуализма.
Сочинения Шопенгауэра:
«О четверояком корне закона достаточного основания», Рудельштадт, 1813; 2-е изд., Франкфурт-на-Майне, 1847; 3-е изд., под ред. Юлиуса Фрауэнштедта, Лейпциг, 1864.