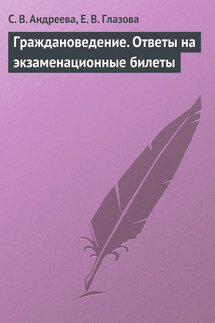От философии к прозе. Ранний Пастернак - страница 9
Но все больше походило на радость сознанье, что именно этой грусти мне ни во чьи уши не вложить и, как и мое будущее, она останется внизу, на улице, со всей моею, моей в этот час, как никогда, Москвой (III: 156).
Способность души растворяться в окружающем пространстве всепоглощающим вибрирующим эхом (троп, характерный для Пастернака21) уверенно, но при этом как бы мельком обозначается поэтом в ходе инстинктивно совершаемого поворота к его подлинному призванию. Его будущее как поэта на этом этапе еще скрыто: после прощания со Скрябиным Москва демонстрирует свое независимое и уравновешенное «единодушие московской ночи» (Там же). Но уже чуть позднее Москва меняется, обещая победу в не столь далеком будущем, и сам город становится соучастником нового состояния поэта. В то же самое время старый «мир» рушится и преобразуется: «Совершенно без моего ведома во мне таял и надламывался мир, еще накануне казавшийся навсегда прирожденным»22 (III: 155).
«Окрыление воли», традиционный образ освободившейся души, впервые появляется в «Охранной грамоте» в форме быстро мелькнувшего видения будущего победного завоевания Москвы23, но отголоски этого образа постоянно встречаются у Пастернака, когда речь идет о роли поэзии в его жизни. Радость, вызываемая полетом, находит отражение в названиях (равно как и в самих стихотворениях) его первых поэтических сборников «Близнец в тучах» (декабрь, 1913) и «Поверх барьеров» (1914–1916). Образ расправленных крыльев, как своего рода вызов, брошенный смерти, появляется в знаменитых «программных» стихотворениях Пастернака, написанных в самые разные периоды его творческой деятельности. Это и «Рослый стрелок, осторожный охотник» (1928), и «Ночь» (1956). Та же тема присутствует в последней строфе «Августа» (1953): «Прощай, размах крыла расправленный, / Полета вольное упорство» (IV: 532). Чувство падения свысока – это стремительное прекращение полета длиною в жизнь – вложено в одно из последних его стихотворений, «Божий мир» (1959): «Я ведь тоже упал с облаков» (II: 195). В том же стихотворении Пастернак размышляет о том, что настало время, когда не он сам, а его книги будут продолжать полет по странам и континентам. Самому же ему, потерпевшему крушение и упавшему на землю, остается лишь ходить «по кошачьим и лисьим следам» – очевидная отсылка как к царству зверей, так и к управляемому инстинктами поведению других писателей, соседей Пастернака по Переделкину (и, вполне вероятно, к его собственной, проявившейся на инстинктивном уровне, как бы прирученной и одновременно зверино-дикой способностью выжить в катастрофе и прожить еще немного):
Итак, тяга, порыв к свободному полету, то есть обращение к поэзии и погружение в нее, наглядно присутствует в этом первом автобиографическом произведении Пастернака, когда решение бросить музыку оказывается связанным с внутренним пробуждением, с душевным ростом и с совершенно сознательным пониманием потенциальной властной энергии этого решения.