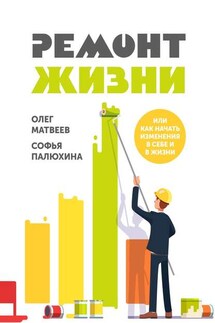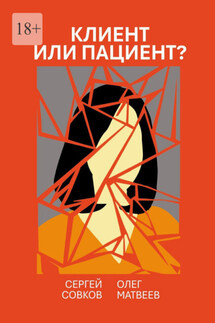От конфронтации в советско-американских отношениях к ядерному разоружению (1972–1991 гг.): история и политика - страница 32
Это позволило достичь большой точности их попадания в цели (по разным оценкам – до 30 метров), это возродило представления о возможности победы в «ограниченной ядерной войне» на базе выигрыша в подлетном времени. Одновременно для межконтинентальных баллистических ракет были разработаны разделяющиеся головные части индивидуального наведения, что повышало опасность контрсилового удара по ядерным силам противника[177].
Исторические факты свидетельствуют, что во время 13-го полета «Чэлленджера» 10 октября 1984 г., когда его витки на орбите проходили в районе Государственного полигона Войск ПВО страны у озера Балхаш, состоялся эксперимент при работе лазерной установки в режиме обнаружения с минимальной мощностью излучения. Высота орбиты «космического челнока» составляла 365 км. Наклонная дальность обнаружения и сопровождения 400–800 км. Точное целеуказание лазерной установке было выдано радиолокационным измерительным комплексом «Аргунь» – генерального конструктора Г. В. Кисунько. Как сообщил потом экипаж «Чэлленджера», при полете над районом Балхаша на корабле внезапно отключилась связь, возникли сбои в работе аппаратуры, да и сами астронавты почувствовали недомогание. Американцы тут же заявили официальный протест. В дальнейшем лазерная установка и часть радиотехнических комплексов полигона, имеющих высокий энергетический потенциал, для сопровождения «Шаттлов» не применялись[178].
Историография проблемы свидетельствует, что министр обороны США Джеймс Шлессинжер 17 августа 1973 г. выдвинул доктрину «ослепляющего» или «обезглавливающего» удара: поражение командных пунктов и узлов связи противника с помощью ракет средней и меньшей дальности, крылатых ракет, обладающих лазерными, телевизионными и инфракрасными системами наведения на цели. Такой подход предполагал выигрыш в «подлётном времени» – поражение командных пунктов до того момента, как противник успеет принять решение об ответно-встречном ударе. Упор в средствах сдерживания смещался со стратегической триады на средства средней и меньшей дальности. В 1974 г. этот подход был закреплен в ключевых документах по ядерной стратегии США. На этой основе США и другие страны НАТО начали модификацию средств передового базирования (Forward Base Systems) – американское тактическое ядерное оружие, размещенное на территории Западной Европы или у её побережья. Одновременно США начали создание крылатых ракет нового поколения, способных максимально точно поражать заданные цели[179].
Как следствие эти шаги вызвали опасения в СССР, поскольку средства передового базирования США, а также «независимые» ядерные потенциалы Британии и Франции[180] могли поражать цели в европейской части Советского Союза. В 1976 г. министром обороны СССР стал Д. Устинов[181], который склонялся к жесткому ответу на действия США, выступал не столько за наращивание сухопутной группировки обычных вооружённых сил, сколько за совершенствование технического парка Советской Армии. Советский Союз начал модификацию средств доставки ядерного оружия средней и меньшей дальности на европейском театре военных действий.
В своих диссертационных работах А. Н. Поневенкин, О. И. Крыжановский, С. А. Прохоровский[182] исследовали деятельность советских государственных и военных органов по парированию американской угрозы из воздушно-космического пространства путем развертывания и развития воздушно-космической обороны