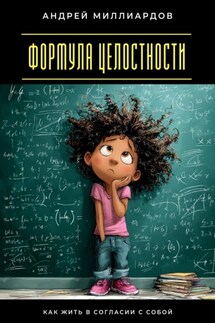Отдаленные последствия. «Грех», «Француз» и шестидесятники - страница 21
«ФРАНЦУЗ»
Режиссер Андрей Смирнов
2019
Сакральное место отца-солдата занял у Смирнова уставший жить отец-лагерник
Опираясь на свой собственный, очень непростой, опыт прожитых лет, Смирнов вносит важные для него коррективы в отлаженную конструкцию судьбоносного межпоколенческого общения. Сакральное место просветленного отца-солдата из «времени большевиков», погибшего на передовой, занимает у Смирнова уставший жить («помереть бы по-человечески») отец-лагерник. Его тяжелая правда в логике фильма актуальнее той военной, которую «пацаны»-управленцы ухитрились затереть до дыр.
Во «Французе» сделано все, чтобы показательно увести в сторону, а затем и вовсе задвинуть на периферию самозабвенную военную героику («умрем в боях», «у меня не было выбора»). Герой французского Сопротивления, погибший в концлагере Анри Дюран, который дал Пьеру не только фамилию, но, судя по всему, и путевку во французскую компартию, оказывается вовсе не отцом Пьера, как поначалу думает зритель, а отчимом. Сама гибель этого отчима в концлагере Равенсбрюк, о которой Дюран упоминает в разговоре с родным отцом, остается во «Французе» где-то на периферии. Хотя лагерь этот вошел в историю как преимущественно женский, в фильме Смирнова достаточно и формальной отсылки к контексту эпохи Второй мировой войны. Что касается живых воспоминаний настоящего отца, прошедшего ГУЛАГ Татищева, о его мытарствах в Вишерлаге, Вятлаге, на Колыме и в Степлаге близ Джезказгана, то они важны для автора именно своей конкретикой и взывают к нашему прямому сопереживанию.
Возможность живой, кровной эстафеты «по партийной линии» во «Французе» последовательно отвергается. Но ведь все очень непросто для Пьера и с восприятием тяжкого лагерного наследия, которое достается герою по линии генетической – вместо скомпрометированной официозом военной легенды, связанной с отцом приемным[40].
При всей внешней нелегендарности пожилого и превращенного с помощью грим-костюма в доходягу актера Александра Балуева (сыгравшего бывшего лагерника Татищева) по сравнению, скажем, с молодым и бравым Львом Прыгуновым (сыгравшим погибшего на фронте отца в «Заставе Ильича»), герой Балуева во «Французе» выглядит не менее монументальным, чем такие легендарные скульптурные образы Евгения Вучетича, как Воин-освободитель в Трептов-парке или Воин-защитник на Мамаевом кургане.
Словно повинуясь скрытой глубоко в подсознании поколенческой программе, Смирнов во «Французе» героизирует Татищева как бы в самом процессе его дегероизации. Или, точнее, самим этим процессом. Почему бы и нет? Ведь может же быть уничижение паче гордости.
Не по одной только властной прихоти харизматичного Балуева, игравшего и генералов, и маршалов, Татищев представлен в невероятно высокопарной театральной манере, которая помогает сделать доживающего горькие дни на обочине жизни лагерного ветерана не просто Героем с большой буквы, а фигурой символической. Балуевскому Татищеву приличествует не скромное пожелтевшее фото, к примеру, в парижской квартире Дюрана, а пьедестал где-нибудь на проспекте Сахарова.
Смирнов прикладывает немало усилий и к тому, чтобы разговор отца с сыном не превратился в морзянку вопросов и ответов. Общение Татищева с Пьером разворачивается неспешно – так, чтобы собеседники могли прочувствовать друг друга и в режиме прямого длительного диалога отец помог сыну осознать важные для него ценностные ориентиры. Но Пьер как был до встречи с отцом, так и после нее остается мировоззренчески неприкаянным сиротой – его членство в компартии, легко допускающее также и его буржуазный индивидуализм, лишь усиливает это ощущение.