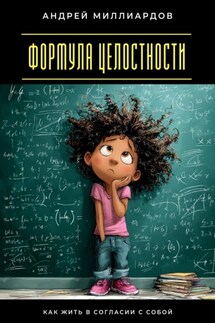Отдаленные последствия. «Грех», «Француз» и шестидесятники - страница 22
«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
Режиссер Андрей Смирнов
1971
На самом деле диалог отца с сыном не клеится изначально. Хрупкая вязь разговора очень скоро взрывается истерикой сына: «Вам на меня наплевать!» – и угрюмым бормотанием погруженного в свое великорусское страдание отца: «Чего тебе надо? Водку пьешь как француз. Катись в свой сраный Париж».
Первый, чисто эмоциональный круг сближения не дает, – да, наверное, и не может дать сколько-нибудь значительного продвижения героев навстречу друг другу. Однако жестко табуированный для шестидесятника прямой, живой контакт с исторической травмой не может состояться и на втором круге общения отца-Татищева и сына-Дюрана. Искренне добиваясь их сближения, Смирнов словно противоречит своей собственной глубинной поколенческой установке и, развивая взаимоотношения героев сам, как автор, пребывает в неустойчивом равновесии.
С одной стороны, хмуро, по-русски выпив водки, Татищев озадачивает сына не только коротким полубытовым вопросом: «В церковь ходишь?» – но и настоящим откровением – рассказом о своем математическом доказательстве бытия Божия, чем он неустанно занимался за колючей проволокой. С другой стороны, у автора фильма нет никакой возможности хоть как-то преодолеть драматургически заданную им самим коллизию поколений, в которой все роли уже распределены. Отец может лишь прекраснодушно уповать на то, что сын взрослый, а значит, сам образумится: «Голова на плечах есть». В свою очередь, сын-иностранец, ощущающий дистанцию с отцом еще острее, чем «ребята с нашего двора», временами даже пугливо шарахается от его откровений. Вполне по-французски, как бы со стороны, Пьер восхищается непонятной и загадочной русской душой отца. Но никак не может взять в толк, что в «голоде и холоде» его отец был озабочен главным вопросом бытия: есть Бог или нет.
Живая музыка, которая, как и поэзия, все-таки возможна «после Освенцима» – после всех открытых отцом сыну страданий и мук, – звучит в фильме скорее для отца, погрузившегося в траур «Лунной сонаты», как в неумолимо наступающий на него вечный покой, чем для сына, исполняющего Бетховена на стареньком клубном пианино лишь в качестве аккомпаниатора трагической отцовской задумчивости. Пьер украдкой поглядывает на отца – не заснул ли он.
Неустойчивое авторское равновесие, естественно, не может длиться слишком долго. Из него нужно либо выйти в какую-то новую ситуацию устойчивости, либо вернуться к той, которая уже стала с годами привычной.
Похоже, сближением с поколенческой нормой и становится у Смирнова повторное сиротство Дюрана, наступающее почти мгновенно после обретения отца. Зафиксировав факт отцовства, Татищев может только умереть – и чем скоропостижнее, тем лучше. Его превращение в «вечно живую» легенду не терпит отлагательств.
Погребальный ритуал, оформляющий мифологическое отстранение прошлого – превращение отца в легенду, – может выглядеть как угодно. Необходимо, чтобы мифологическое превращение в принципе произошло. Подходит и звезда над могилой с оружейным воинским салютом, как в «Белорусском вокзале», и обряд отпевания с деревянным могильным крестом во «Французе».
«ФРАНЦУЗ»
Режиссер Андрей Смирнов
2019
Сакральная смерть отца вроде бы снова пытается задать вопрошанию сына «Как жить?» бытийную высоту. Но в Дюране уже нет той страстной витальной энергии, которая была у шестидесятников. Он лишь поддерживает в отношениях с прошлым некий status quo, который теперь не предполагает никаких радужных перспектив, когда-то давно послуживших подходящей заменой внутреннему росту.