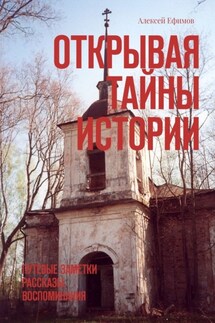Открывая тайны истории. Путевые заметки. Рассказы. Воспоминания - страница 23
В 1888 г. Псколянскую пустошь приобрёл крестьянин деревни Высоково Степан Фёдоров. На основе старого плана генерального межевания был составлен новый план этой пустоши. Она простиралась от северного берега Псколянского озера до Высоковского озера, захватывая земли в пойме реки Псковы и часть Чёрного леса с Псколянской горой. Всего к Псколянской пустоши относились 83 десятины 720 саженей земли.
Участок границы Псколянской пустоши, проходивший от северо-западной оконечности Псколянского озера через Чёрный лес к истоку реки Псковы, продолжал существовать в виде просеки и в советское время, он совпадал с границей между 10-м и 86-м лесными кварталами Княжицкого лесничества. Сохраняется этот участок границы на картах и сейчас. Сначала граница идёт на северо-восток, потом дважды поворачивает на восток и снова на северо-восток.
До Великой Отечественной войны возле северного берега Псколянского озера, на месте селища Псколяны, стоял хутор Михаила Залётина, отчего, например, жители деревни Княжицы называли его Залётиным хутором. Лесными дорогами этот хутор был связан с деревней Высоково и хуторами в пустоши Сёлкино, для чего на реке Пскове имелись два моста, один из которых находился у самого места её впадения в Псколянское озеро.
Отсюда же, с Залётина хутора, уходили дороги на хутор Августа Тигазинга, в деревню Пустыньки и на хутора в пустоши Створцы. В послевоенное время Залётин хутор опустел. Вплоть до 1980-х гг. подольская бригада совхоза «Вперёд» на северном берегу озера заготавливала сено. Здесь сено косили и здесь же его стоговали, а зимой вывозили на Подольскую ферму.
Сначала мы увидели на месте Залётина хутора небольшой прудик, потом возле ёлок и большой берёзы – ещё один пруд прямоугольной формы. Дошли до фундамента довольно большой постройки, от которого осталось нагромождение камней-валунов. Сергей замерил фундамент шагами, его размеры оказались примерно 16х6 метров. Пока мы шли вдоль северного берега озера, постоянно попадались старые, обросшие лишайником, яблони. Их было много, даже подумалось, что здесь стоял не один хутор, а несколько.
Кроме яблонь, на северном берегу Псколян росли берёзы, ели, осины и ольха. Когда здесь косили, берег был чистый, сейчас же он постепенно зарастает. На берегу мы рассмотрели прижавшийся к ольшинам большой ледниковый камень-валун красноватого цвета. Он практически весь оброс зеленовато-жёлтым мхом. Видели наложенную медведем кучу – его помёт, но эта куча была уже изрядно подсохшей, значит, медведь появлялся здесь давно.
Заметили мы и свежие следы большого лося. Видимо, сохатый ночевал здесь под ёлками и сразу же ушёл, услышав наши голоса и музыку, звучащую из моего «мобильника». Спустились к берегу озера. Я умыл лицо водой и набрал воды в банку; вода была такого же желтоватого смолистого цвета, как и в Пскове-реке. Сергей увидел валяющуюся пустую сигаретную пачку; по дате выпуска мы узнали, что рыбак, обронивший её, рыбачил здесь буквально на днях.
Хутор Тигазинга и обратный путь
От Залётина хутора мы решили пройти к хутору эстонца Августа Тигазинга, там, где жила до своего замужества прабабушка Сергея – Паулина Осиповна вместе со своими родителями. Перескочив два ручья, впадающих в Псколяны, мы отдалились от озера и вышли на свежевыпиленную делянку, тянувшуюся аж до самого урочища Пустыньки, а уже затем проследовали на эстонский хутор. Дело в том, что после последнего разговора по телефону с Андреем Константиновым, мы договорились встретиться именно на хуторе Тигазинга. Но так получилось, что Андрей с Алексеем пришли сюда раньше нас, посмотрели, что нас нет, телефонная связь здесь, к сожалению, отсутствовала, и они решили продолжить свой поход дальше – ушли по дороге в сторону урочища Пустыньки.