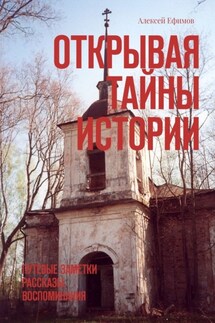Открывая тайны истории. Путевые заметки. Рассказы. Воспоминания - страница 24
Как потом выяснилось, мы разминулись с Андреем и Алексеем на 20 минут. Место, где ранее располагался хутор Тигазинга, было чистое, кое-где ещё лежал снег. На взгорке, где, видимо, стоял двухэтажный жилой дом, росли несколько тополей и старая яблоня. По краям поляны высились берёзы, ёлки и одинокий вяз. Вдруг Сергей позвал меня и показал на снегу медвежьи следы. Следы были свежие, снег вокруг них не успел обтаять. По следам мы определили, что медведь был среднего размера.
Тут же я услышал хруст веток по направлению дороги на хутор эстонца Августа Виска. Мы стали кричать, взорвали несколько взятых с собой петард, думали, что это Андрей и Алексей. Но ведь они за прошедшие 20 минут ушли уже далеко и совсем в другую сторону, т. е. они не могли хрустеть ветками. Скорее всего, это медведь убегал и хрустел ветками. Думаю, что мы его гнали ещё с Чёрного леса, у меня ведь всю дорогу громко играла музыка на мобильнике. Косолапый уходил от нас сначала по Чёрному лесу, потом, видимо, по краю делянки, и, наконец, через хутор Тигазинга он убежал в сторону Висковой плотины. Получается, что на хуторе Тигазинга сначала побывали Андрей с Алексеем, потом медведь, и сразу за ним – мы. И всё это было в течение 20 минут.
Хутор Тигазинга был нашей конечной точкой экспедиции. На обратном пути мы старались придерживаться старой дороги, которая связывала этот хутор с Залётиным хутором, стоявшим на месте кривичского селища Псколяны. Далее, от хутора дорога вывела нас к пойме реки Псковы, ровно посередине участка её русла между Высоковским и Псколянским озёрами. До войны здесь был мост, после войны тут же была устроена гать из брёвен, по которой трактора из деревни Подол через деревню Высоково, ездили на Псколяны за сеном. Но перейти реку Пскову там, где когда-то была настелена гать, у нас не получилось. Вся пойма реки была затоплена. Бобры устроили свои запруды недалеко от истока реки Пскова из Псколян и на месте Висковой плотины, и тем самым подняли воду и в озере, и в реке.
Через край Чёрного леса и болото мы вышли к Высоковскому озеру. Предстояла обратная дорога вдоль западного берега этого озера. Сапоги тонули во мху, напитанном водой, каждый шаг давался с двойным трудом. Чавкая сапогами, мы упорно двигались по болоту вперёд. Стоял полдень, уже вовсю палило солнце, очень хотелось пить. Последнюю воду мы выпили на хуторе Тигазинга. Тут нас на какое-то время спасла прошлогодняя кисленькая клюква. На гривке мы чуть не наступили на ужа. Я пошевелил его посохом, но уж сделал лишь вялое движение головой. Он, видимо, только впервые вылез из своей зимней норы, и заряжался солнечными лучами.
Достигнув горки, разделяющей Высоковское и Радоговское озёра, присели на спиленные кем-то чурки. Здесь мы наконец-то выдохнули после перехода через болото. Снова хотелось пить. И тогда я достал пол-литровую бутылочку с водой из реки Псковы. «Ну что, давай, Сергей, по глотку, – сказал я, – думаю, не отравимся, ведь партизаны пили же воду из болот и все были здоровы». Так мы выпили почти всю бутылку с желтоватой водой из реки Псковы.
Внизу в озере, у берега шумно плескались щуки, у них начался нерест. Вокруг пели зяблики, зеленушки, другие пташки. Тут я вспомнил слова Сергея Николаевича Петрова: «Как же хорошо в Высоково весной, когда зацветает черёмуха! Её аромат разносится по всей округе. Пригревает первое весеннее солнышко. Душу радуют мелодичные трели птиц. В озере плещется рыба… Просто настоящий рай!»