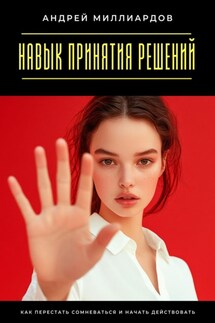Падения Иерусалимов - страница 26
– Sind das ihre kinder?>12
– Что вы, пан офицер, – затараторила старуха, – какие дети? Это внуки. Наша дочь, бедняжка, оставила малышей нам, а сама уехала на заработки в деревню. А когда началась бомбежка, мы сразу в подвал…
Офицер отрешенно сверлил меня глазами. Потом его взгляд медленно сполз ниже, и он ткнул меня в грудь указательным пальцем. Потом аккуратно приподнял бронзовый крест покойного Бермана, висящий на моей шее, и кивнул стоящим сзади часовым. Солдаты расступились, открывая нам путь за оцепление. Мы быстрым шагом, не оборачиваясь, удалялись прочь от бушующего хаоса. Три маленьких ребенка, в последний момент вырванных из цепких лап насилия и жестокости двумя неравнодушными пожилыми поляками. Как тут не поверить в чудо?
И только когда мы завернули за угол, старик остановился и крепко обнял дрожащую от страха жену. Женщина вцепилась в его спину и зарыдала.
Потом мы медленно шли вдоль домов, пробираясь через огромные, валявшиеся на асфальте куски стен и спотыкаясь о камни поменьше. Всюду нас преследовал запах гари и этот вездесущий пепел, выедающий глаза и мешающий вдохнуть полной грудью. Закопченное небо, клубясь дымом, низко дрожало над нашими головами. Мне было неудобно перебирать ногами в огромных армейских ботинках. Каждый шаг давался с трудом. Старик из последних сил помогал девочкам и супруге. Мне же приходилось полагаться только на себя.
Повсюду нам встречались группы изодранных бледных польских солдат. Под присмотром вооруженной охраны они разгребали завалы. На пленных не было ремней и знаков отличия. Лишь в покрое и размерах расправленного кителя узнавался офицерский чин. Они рылись в кучах, растаскивая лопатами заторы и освобождая путь скопившейся у препятствия технике. Инструментов на всех не хватало, и в ход шли подручные средства: доски и палки, вырванные из руин. Но чаще всего люди расчищали путь голыми, стертыми до крови и серыми от пыли руками. И было не по себе, когда нас встречали веселыми взглядами сидящие на танках и броневиках радостные солдаты в серой форме и стыдливо провожали обреченные глаза теней в форме коричневой.
Вскоре мы подошли к дому, в котором жила моя семья. На месте зенитного расчета зияла огромная воронка, заглянув в которую на ходу, я увидел искореженное орудие и торчащую из земли ногу. Сапога на ней не было, и с голой стопы свисала обугленная портянка. А рядом лежал идеально чистый, играющий солнечными пятнами на обглоданных взрывами кирпичных стенах прожектор.
Дом стариков Войцеховских находился в соседнем квартале. И к нашей великой радости от сыпавшихся с неба бомб он нисколько не пострадал, за исключением выбитых окон. Но во всем городе едва ли можно было найти хоть одно здание, не страдающее от этого недуга. Тяжело дыша, мы поднялись на четвертый этаж, и старик дрожащей рукой отворил дверь в жилище, которое в последующие четыре года я буду называть своим домом. А девочек-близняшек – Рину и Хану – я буду называть своими сестрами. Но я никогда не называл Войцеховских своими родителями. И если честно, трудно было называть стариков, проживших более сорока лет в браке, семьей. Ведь полноценной семьей можно называть лишь тот союз, что креп под звонкий детский смех растущих поколений. И естественно старики соврали тому немцу: у них не было дочери. У них вообще не было детей. И когда мы спрашивали, почему, Клара – так звали нашу храбрую спасительницу – лишь грустно улыбалась и старалась сменить тему разговора. Но я часто ловил ее полный нежности взгляд и видел заботу, которой она окружала моих названых сестер. Вся ее нереализованная материнская любовь и ласка нашла выход в тройном размере. Но даже эта любовь не могла притупить любовь нашу. К родителям. И она это понимала. И мирилась со своей ролью мачехи, которую никогда не назовут матерью.