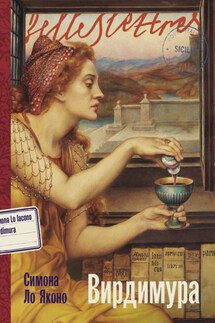Парадокс божественного замысла - страница 55
Закат различения – это не исчезновение дара, а изменение способа его восприятия. Все еще возможно различать, но это уже не поощряется. Более того, это вызывает подозрение. Пророческий голос, если он возникает сегодня, встречается уже не с вниманием, а с проверкой: по каким признакам, с какими основаниями, под чьим авторитетом. Таким образом, различение как духовное зрение оттесняется за пределы нормального опыта, а на его место встает герменевтика, встроенная в признанные структуры и направленная не на отклик, а на подтверждение. Пророческий импульс выживает лишь в формах, не опасных для системы: в метафоре, в молитвенном воодушевлении, в эстетике – но не в реальном вызове к изменению восприятия.
Так постепенно исчезает то, что делало веру живой: способность узнавать. Толкование сохраняет форму, но вытесняет напряжение. Оно удерживает текст, но теряет обращенность. Оно дает уверенность, но гасит трепет. И потому, где раньше человек спрашивал: «Что происходит во мне, когда я слышу это?», теперь он спрашивает: «Как это правильно понять?». В этой смене вопроса и заключается перелом, после которого голос больше не звучит, а лишь передается, и различение больше не возникает, а анализируется.
В тот момент, когда различение уступает место толкованию, когда текст становится объектом анализа, а не живого узнавания, и возникает состояние, которое невозможно зафиксировать в виде ереси или доктринальной ошибки, но которое ощутимо как внутренняя тишина – не благоговейная, а опустошенная. Это не отрицание веры, не открытый отход от Завета, а постепенное угасание того напряжения, в котором когда-то происходила встреча. Все еще звучит правильная речь, совершаются ритуальные действия, продолжаются цитаты, чтения, исповедания – но в них больше нет внутреннего сдвига, нет боли узнавания, нет света различения. Возникает ощущение, что движение продолжается, но без направления; что вера исполняется, но без участия; что форма жива, но центр – пуст.
Эта незаметная пустота – не враждебная по отношению к Богу, а лишь утратившая к Нему внутреннюю чувствительность – становится той средой, из которой впоследствии рождается потребность в реформе: не потому, что все стало ложно, а потому, что все стало безразлично. Это не кризис, который можно устранить административной перестройкой или богословской дискуссией, потому что его источник – не в нарушении порядка, а в исчезновении смысла. В этом предреформенном состоянии начинает зреть внутренняя двойственность: с одной стороны – растущая тревога, с другой – стремление усилить контроль. Чем слабее ощущается присутствие, тем больше создается норм; чем менее слышен голос, тем громче звучат регламенты. И в этой компенсаторной активности, в попытке восполнить утраченное за счет упорядочивания, закладываются контуры будущей реформы – как ответ на тишину, ставшую невыносимой.
Реформаторы приходят не тогда, когда все устроено, а тогда, когда становится невозможно продолжать – не потому, что исчезли формы, а потому, что формы больше не удерживают содержания. Но прежде чем появится человек, способный назвать утрату – как Иосия, как Ездра, как Лютер, – возникает поколение, в котором почти никто уже не различает. Писание становится объектом реставрации, Закон – предметом редактирования, богослужение – сценарием, лишенным внутреннего напряжения. Люди продолжают служить, не замечая, что их служение давно утратило адресата; они говорят от имени Бога, не различая, говорит ли Он; они толкуют тексты, не ощущая, исходит ли от них жизнь. Эта стадия невыносима для пророка, но почти незаметна для священника, потому что она не связана с нарушением порядка – она связана с утратой различения. И если бы не пустота, если бы не это безмолвие, возникшее там, где когда-то звучал голос, не появилась бы сама потребность в перемене. Но парадокс заключается в том, что реформа, даже если она рождена из жажды присутствия, слишком часто превращается в попытку стабилизации. То, что начинается как различение, заканчивается как регламент; то, что было зовом, становится нормой. И если различающее сознание не удержится, то реформа не выведет к новому, а лишь закрепит забвение под видом обновления.