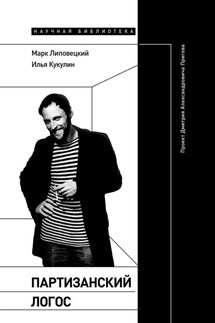Партизанский логос. Проект Дмитрия Александровича Пригова - страница 20
В отличие от прямых цитат чужого живописного языка, персонажная стилистика Кабакова представляет сконструированный «стиль», некий синтез свойств, разбросанных в произведениях различных советских художников. Иными словами, мы имеем дело с придуманным «стилем». И значит – авторским. Эта стилистика складывается в равной мере из «чужого» языка советской живописи и из собственного навыка «разговора» на этом языке. Она одновременно дистанцирована от художника Кабакова и внутренне присуща ему.
Все художники-персонажи Кабакова говорят на одном и том же языке. Принципиальное свойство этой стилистики, которое декларирует Кабаков, – анонимность, отсутствие выраженного авторского почерка… Однако внутри этого «изобретенного», подсмотренного, апроприированного живописного языка явно присутствуют следы конкретного автора – его индивидуальный почерк [Бобринская 2013: 242].
Е. Бобринская, подробно проанализировавшая «персонажный метод творчества» в неофициальном искусстве, раскрывает его парадоксальность: присвоение наиболее банальных, анонимных и «пустых» форм и языков советской культуры становится в творчестве художников-концептуалистов способом производства индивидуальной субъектности:
Художники-концептуалисты оказываются вовлечены в создание технологий производства «индивидуального» и одновременно демонстрируют иллюзорность и сомнительность всех результатов таких технологий. … Персонажный метод творчества оказывается для концептуалистов основной стратегией в производстве и одновременно деконструкции субъективности, индивидуальных и коллективных, своих и чужих языков [Бобринская 2013: 22–23].
И это в полной мере относится и к Пригову, который, неустанно апроприируя, тем не менее действительно создал свой оригинальный стиль, узнаваемый, по выражению С. Бунтман, с первой строки.
Сам Пригов не раз объяснял механику «персонажного авторства» с точки зрения литературы, а не изобразительного искусства. Например, о своей «женской поэзии» Пригов говорит: «Я нисколько не притворяюсь ни Ахматовой, ни Цветаевой, ни даже некоей женщиной – Черубиной де Габриак. Это не входит в мою задачу. Есть мои герои, мои персонажи» [Зорин 2010, 437]. А в беседе с Михаилом Эпштейном Пригов описывает процесс дискурсивного перевоплощения как сопоставимый с актерским перевоплощением:
М. Э.: То есть когда, допустим, Вы пишете женские стихи, то Вы не только отчуждаете и деконструируете этот дискурс, но в какой-то мере…
Д. П.: И впадаю в него!
М. Э.: И впадаете в него, вписываете его в себя.
Д. П.: ‹…› Действительно, в какой-то момент я искренне впадаю в этот дискурс. Проблема не в том, чтобы обмануть читателя, чтобы он так себя вел. Проблема в том, что ты должен сам быть невменяемым в этом отношении.
М. Э.: То есть это в какой-то мере экзистенциальная задача?
Д. П.: Это психосоматическая задача. Ну, экзистенциальная в переводе на уже личные проблемы какие-то. А вообще-то это как психосоматическая, почти медитативная задача. Это род вообще работы над собой, это род такого тренинга. Но я делаю, скажем, не йоговские упражнения для, так сказать, владения плотью. Я делаю некие сознательные долгие процедуры, выработал собственные, для работы со своим оценочным методологическим аппаратом, языковым и дискурсивным [Эпштейн – Пригов 2010: 69–70].
Более самоиронично этот же механизм описан в стихотворении из цикла «Искренность на договорных началах, или Слезы геральдической души» (1980):