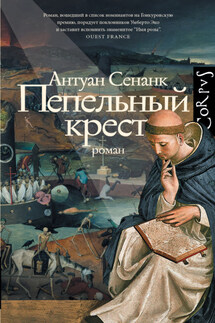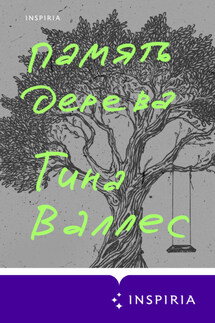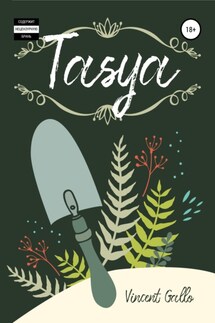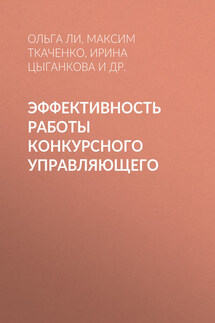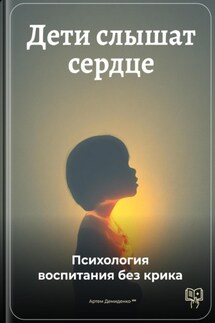Пепельный крест - страница 21
Паломники, направлявшиеся на юг, к Тулузе, при встрече с монахом обнажали головы, а тот шагал на север, в свой монастырь, и даже не видел их. Они шли на юг, а он на север, возвращаясь из паломничества. Антонен шел один, повернувшись спиной к Компостеле и к храму, не имевшему никакого отношения к святому Иакову. Одинокий паломник на пути апостола, которого никогда не прославляли, который не отпускал ни одного греха. Единственный странник, шедший поклониться Иуде.
– Где твой друг? – спросил молодой кожевник.
– Заболел.
Нагруженный веленью и чернильными орешками осел ждал его рядом с чанами, где вымачивались кожи. Мастер передал Антонену кожаный футляр с флаконами железного купороса.
– Это будет самая прекрасная в мире книга, – сказал он, сунув в руку Антонена небольшую медаль.
Антонен повертел ее в пальцах. На одной стороне была выгравирована эмблема ордена: крест, увенчанный восьмиконечной звездой, – символ святого Доминика. На оборотной стороне было с трудом различимо большое готическое “Э”, которое явно пытались соскрести ножом. Молодой человек опустил руку на ладонь Антонена и сомкнул его пальцы вокруг медали.
– Никому ее не показывай, – произнес он и вернулся назад, к чанам.
Антонен медленно тронулся в путь. У выхода из дубильни он встретил потаскушку, та подалась было к нему, но остановилась, не приближаясь. Он ждал, что она посмотрит на него так же, как в первый раз, но что‐то с тех пор, наверное, изменилось; она взглянула на него совершенно равнодушно и отвернулась.
Он вышел на каменистую дорогу, ведущую к монастырю. На Тулузу тем временем обрушился проливной дождь. Антонен медленно двигался вперед, не стараясь уберечь от грязи облачение. Глядя себе под ноги, погруженный в раздумья, он позволил ослу вести его за собой.
Он вспоминал слова Робера, сказанные в подвале постоялого двора. Девушки отворачиваются от нас не потому, что мы носим не ту одежду или недостаточно красивы. Девушки отворачиваются от нас, если мы стыдимся самих себя.
Глава 8
Сирота
“Одиннадцатого апреля 1348 года в обители бегинок в Виль-Дьё на Рейне я, Гийом, готовлюсь выполнить самую обычную для этого века работу: умереть.
Я пока не страдаю, но чума уже поселилась во мне.
Мне это известно так же хорошо, как лекарям из Кёльна, людям знающим, которых сестра-настоятельница общины вызвала в начале морового поветрия и которые за это время все скончались.
Медицина не лечит чуму.
Ни лечебные травы, ни кровопускания, ни прижигания бубонов раскаленным железом или охлаждение их льдом, ни посты, ни бесконечное питье отвратительных на вкус отваров, ни промывание язв святой водой, ни их бичевание, ни ворожба, ни молитвы не могут исцелить от чумы. Не приносит пользы даже принесение в жертву евреев. Чем больше их сжигают, тем больше расползается мор.
В окно моей комнаты я вижу реку, которую часто пересекал с человеком, чьим учеником я был. Я спрашиваю себя, чему я научился с тех пор, как его не стало, но прежде всего – что я сделал без него. Ничего, чем можно было бы хоть немного гордиться.
Я до сих пор брожу взад-вперед по своей памяти, как по келье. Я напрасно пытался соединить в единую личность того, кто меня всему научил, и того, кто – я тому свидетель – так ужасно жил. Разве можно судить одновременно двух человек, коими был мой учитель? Разве можно справедливо покарать одного и помиловать другого? Все мнения о нас – это середина между нашими лучшими и худшими поступками. Но когда разница так велика, как выбрать между тем, кто заслуживает безусловного прощения, и тем, кому самое место в аду?