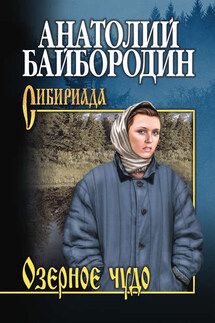Перед будущим - страница 39
Ыжык можно перевести с алтайского как «Место, защищенное от ветра».
Глядя на топографическую карту, в это легко поверить. Ущелье у-образной формы замкнуто отвесными скалами, никаких троп, никаких подходов. Указан поселок (давно заброшенный), название Азган («Заблудившийся»). Других материалов нет ни в архивах Сибирского отделения Академии наук, ни в архивах Зап-Сиб управления. А меня давно интересуют образцы, доставленные из указанного ущелья в 1943 году – все тем же неутомимым Поспеловым. Страна нуждалась в золоте, ртути, серебре, железе, она всегда в этом нуждается. Образцы из ущелья служили для Поспелова временным маркёром. Достаточно точным, как вы понимаете.
В кембрии (это я цитирую запись из полевого дневника Поспелова) известные нам места (окрестности ущелья Ыжык) представляли, видимо, цельную островную дугу, – до той самой эпохи, когда мощные блоки Горного Алтая начали интенсивно надвигаться на смежные структуры Салаира, Кузнецкого Алатау и Западного Саяна. Но и в более позднюю каледонскую эпоху (кембрий-ордовик) регион оставался все тем же мелководным бассейном. Вот эти осадочные породы, прежде всего кембрийские плотные известняки, вклинивающиеся в массивы метаморфизованных толщ, меня и интересовали. Отпечатки брахиопод, закристаллизовавшиеся кубки археациатов, хитиновые (забронировались во времени) панцири трилобитов, сброшенные в процессе линьки – долгий тойонский век, как указанную эпоху определяют стратиграфы.
Третьего июля одна тысяча девятьсот пятьдесят девятого года в четверть седьмого утра мы с проводником уже поднимались по голому каменистому склону. Официально – просмотреть осадочные отложения в ущелье Ыжык, неофициально – заглянуть в брошенный поселок. Напомню, Азган его называли. Вряд ли там что-то сохранилось, время есть время, но когда-то (сужу по старым газетам) там на высоте более двух тысяч метров не раз прятались от полиции беглые каторжники, а то и раскольники, а в советское время укрывались от милиции дезертиры.
Моего проводника звали Илья Кергилов.
Худой, крепкий, злой, он постоянно что-то бормотал про себя.
Кайдар сен барды? Может, у меня произношение хромает, но слова Кергилова я помню. Это он так спрашивал. Сам себя. Дескать, куда ты пошел? Он был крепкий мужик, этот Кергилов. Злой и крепкий. Не агар, как он (снисходительно) обзывал меня. Видимо, я казался ему бледным и истощенным. Это Азган, бормотал он. Никого там нет. Кайдар сен барды? Никогда наверху не видно ни дыма, ни движения. Все тихо, мирно. Кайдар сен барды, агар?
Я не отвечал. Илья Кергилов был недоволен.
Конечно, недовольна была и его приземистая лошадь.
Они неслышно ступали между камнями, иногда цепляя одна копытом, другой сапогом неровные каменные обломки. Не знаю, что Кергилову подсказывало направление, но в общем он не ошибался, выбирал цель и точно шел к ней, иногда слишком кружным, на мой взгляд, путем, зато всегда выходил в нужное место. Только вот зачем тебе туда, агар? Я так же негромко отвечал: по делу. Проводник качал коротко стриженой головой и сплевывал, хотя умное сочетание по делу казалось ему убедительным. Туда не ходят, говорил он. Там делать нечего. Он так и говорил: там делать нечего. И опять спрашивал, зачем тебе Азган? Ну да, сплевывал он, ходили туда люди. Какие люди? – тут же спрашивал я. Наверно плохие, сплевывал Кергилов. А зачем они туда ходили? Проводник опять сплевывал: может, прятались, агар. И качал стриженой головой: туда уже давно никто не ходит.