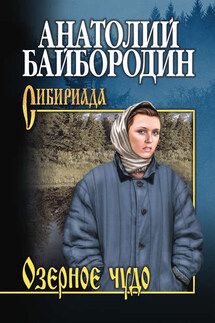Перед будущим - страница 47
Сделала я несколько фотографий. Фасад больницы. Довольное лицо алтайского мальчишки в кабинете стоматолога (не имеет отношения к теме, но сойдет как иллюстрация). Портрет молодой медсестры. И вдруг решила: здесь мне искать нечего. Надо съехать с тракта, забраться поглубже в горы и расспросить местных жителей. О чем? Ну, хотя бы о том, что они думают о такой напасти как клещевой энцефалит там, на местах. Не знают поди о нем вообще ничего. Говорят, эта беда пришла сюда совсем недавно. Вот пока и не распознают грозную болезнь, предпочитают лечиться старыми, дедовскими способами.
Честно говоря, не так уж мне это было нужно.
Хотелось увидеть, узнать, как живут люди в настоящих «диких» (по моим понятиям) местах. До сих пор я нигде дальше Чемала не бывала. Бийск, Горно-Алтайск, Барнаул – разве это настоящий Алтай?
С просьбой закинуть меня куда-нибудь «подичее» я обратилась к коневоду алтайцу Тооту. Хорошее имя, и человек простой, открытый. Мы познакомились с ним в коридоре больницы. Невестка уговорила Тоота приехать сюда с «пустяковой» травмой – распорол руку, когда косил траву. Рана, по его словам, сделалась «нехорошей», но он бы и сам её вылечил, приехал только потому что дети волновались. Рассказ Тоота о народных способах лечения травами я собиралась включить в очерк, ну, скажем, как красивую иллюстрацию.
Показать местность? Тоот согласился.
Закончив лечение, на своем дребезжащем уазике он довез меня до стоянки туристов (их на Алтае хватает). Дальше в горы я отправилась с этой группой, но снова, в общем-то, кроме туристической романтики, не увидела я ничего необычного. Алтайские деревни туристы стараются обходить стороной и заглядывают туда, только чтобы попроситься в баньку или за молоком. Я же наоборот в одной из таких деревень (желательно расположенных подальше от тракта) и хотела задержаться.
Повсюду, где мы проходили, на полях цвели огоньки. Оранжевые маячки. Колыхали ветками на ветру лиственницы, старые и молодые. Чем выше в горы, тем запахи делались явственнее, листья у трав мясистее. В нечастых деревнях пустовали многие дома – люди уехали в город.
Мне повезло. Алтай будто услышал мою просьбу.
В один из заходов в «попутное» глухое село я познакомилась с Бубаем.
Коренастый, уверенный – он называл себя проводником. Это меня обрадовало, я ведь не забыла о редакционном задании. Правда, мои расспросы по поводу клещей и у Бубая вызвали усмешку. Следовало, наверное, позвонить в редакцию, но меня будто понесло. Куда? Сама не знала. Стала сомневаться даже в том, что соберу интересный материал. Да и как вообще подать эту тему? Раскрыть проблему? Построили больницу, а серьезно клещевой энцефалит никто не воспринимает. А что, люди у вас не умирают? – спрашивала я. Ну, как не умирают. Обязательно умирают. Мы все умрем. Кто от чего. Писать о разъяснительной работе, которая еще предстоит краевой и местной администрации? Тоска.
Сама я постоянно и нервно осматривала и ощупывала себя, не ползет ли кто по коже? Не впился ли? К счастью, никто не полз. Даже насекомым на Алтае я была не особенно нужна.
В общем, я приуныла, призадумалась. Ни экзотики вокруг, ни чудес.
Даже обмолвилась как-то в разговоре с местными, что журналисту, пользуясь случаем, куда бы он ни поехал, всегда хочется добраться до какой-нибудь загадки. Вот, скажем, нет ли у вас тут места тайного заповедного? Такого, чтобы на всю жизнь запомнилось? Или знахаря такого, чтобы прямо ууух! Я бы портретный очерк забабахала на целую полосу! Но люди, с которыми я общалась, были заняты делами вовсе не чудесными – скот пасли, овец, коней. Посадки, заботы по хозяйству. Поговорят-поговорят, да и уходят. Поглядели на приезжую, и пока, бывай. По вечерам громким блеяньем дразнили меня овцы, возвращающиеся с пастбищ.