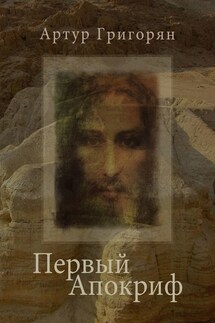Первый Апокриф - страница 34
– Усадите его!
Толстяк, похоже, даже не услышал. Но Андреас, жадно следивший за каждым моим движением, понял, что всё закончилось; и, преодолевая тяжесть и пациента, и толстого ассистента, усадил беднягу. Я поднёс страдальцу миску к губам:
– Сполосни рот! И открой уже глаза, что ли.
Бедняга торопливо хлебнул воды и, подчиняясь приказу, начал старательно надувать щёки, звучно перегоняя глоток слева направо. Постепенно осмысленное выражение проступало сквозь искажённые страданием черты, и он как на какое-то чудо уставился на свой собственный зуб в моих руках, который всё ещё был зажат клещами. А рот-то всё полощет и полощет. Сплюнуть хоть догадается? Или отдельно приказать? Фу, догадался, слава Богу!
Казалось, Элиэзер не верил, что такое ничтожество, как этот крошечный костный прыщ, мог мучать его с такой силой, и что вот так, играючи, за какую-то минуту, я избавил его от многодневной пытки. Тем временем Андреас и толстячок развязали путы, и через мгновение рёбра мои захрустели в медвежьих объятиях.
– Волшебник! Барух135! Как ты смог так быстро его вырвать? – возбуждённо частил он, шепелявя, и его радость передавалась мне по каким-то невидимым волнам.
Я всегда любил эти минуты. Видеть благодарные глаза того, кто ещё недавно страдал, а теперь излечился благодаря твоим усилиям, слышать его похвалу – что может сравниться с таким чудом? К этому добавлялась щепотка гордости за своё умение. Ведь как же ювелирно мне удалось проделать непростую манипуляцию, не посрамив Саба-Давида!
*****
Слух о чудесном исцелении Элиэзера быстро распространился, словно круги по воде. Андреас рассказал братьям (не исключено, что и приукрасив малость), а торговцы расхвалили меня на всю Бейт-Абару. И вскоре я почувствовал силу людских слухов, лавиной покатившихся со склона. Прошло не так много времени, а я уже оказался придавлен их тяжестью. Ко мне потянулся народ из близлежащих селений со своими болячками, и с каждым новым исцелённым слухи о моем умении получали новую пищу. Я и сам удивлялся, когда тот или иной больной или просто путник, разговорившись, пересказывал мне россказни обо мне же, дошедшие до его слуха. Поистине, если бы я умел хоть пятую часть из того, что мне приписывала народная молва, то слава моя затмила бы Асклепиоса136. Сначала это меня лишь удивляло и забавляло. Позднее даже появилось смутное раздражение, когда я слышал очередную небылицу. Эти байки словно обязывали меня к чему-то, устанавливали планку, которую мне приходилось каждый раз преодолевать, и не скажу, что я так уж был счастлив столь щедро расточаемым авансам. Я-то лучше любого знал, что мне действительно по зубам, а что выше моих сил, и боялся, что рано или поздно ошибусь или просто не оправдаю возложенных надежд и упаду с вершины, куда меня незаслуженно вознесли.
В последующие дни, словно отголоском отвечая на народную молву, изменилось и отношение ко мне Андреаса и Йехуды. Начал проявляться и день ото дня все более укреплялся какой-то их особый пиетет ко мне, замеченный ещё в самом начале наших вечерних посиделок, но особенно усилившийся после того, как я начал лечить. Они добровольно признали моё превосходство и вознесли на некий пьедестал наставника – авторитета, которого они слушали едва ли с меньшим вниманием, чем Ха-Матбиля, но с которым не чурались свободно спорить и дискутировать. Йоханана они только слушали, редко позволяя себе вопросы или реплики, но со мной они говорили спокойно. Накопленные за день и не высказанные мысли лились рекой; и я сам, избегающий слишком давить на Йоханана, опасаясь перегнуть палку, тоже был рад возможности излить себя.