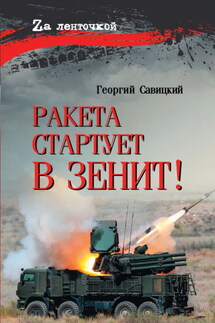Поэты Латинской Америки и России на XI международном фестивале «Биеннале поэтов в Москве» - страница 7
К стихам Мехиаса тематически близки стихи боливийского поэта Габриэля Чавеса Касасолы. На первый взгляд они кажутся менее утончёнными и несколько более прямолинейными, но это ощущение с лихвой компенсируется особой открытостью миру и новым впечатлениям. Этот поэт тоже часто всматривается в культуру XX века или в свою семейную историю и всегда находит там нечто парадоксальное, заслуживающее пространной стихотворной медитации, построенной на искромётных парадоксах и согретой тёплым чувством по отношению ко всему живому:
(Перевод Дениса Безносова)
Это поэзия наблюдателя, который – в отличие от многих других наблюдателей по всему миру – ещё не разучился удивляться тому, что он видит, не превратился в скучающего туриста.
На фоне испаноязычной поэзии региона стихи бразильских поэтов стоят особняком. Дело здесь и в языке (португальском), и в культурных ориентирах: страна ориентируется в основном на Соединённые Штаты и почти забыла о бывшей метрополии. Среди собственно португальских поэтов лишь голос Фернандо Пессоа слышен в бразильской литературе. Возможно, причина в особой протеичности этого поэта, умевшего говорить многими языками сразу, почти предвидевшего будущую разноголосицу XXI века.
Так, стихи Марсио-Андре де Сузы Аса и Аделаиде Ивановой лучше понятны в контексте североамериканского поэтического пространства. МарсиоАндре (именно под таким псевдонимом он выступает как поэт) в последние годы больше занимается кинематографом и видеоартом, практически не публикуя новых стихов. Смену занятий сопровождал и биографический поворот: из Рио-де-Женейро поэт переехал в Будапешт, где едва ли существует та литературная среда, которая окружала его на родине. Его стихи больше всего напоминают о поэзии языковой школы: это сосредоточенные размышления над тем, как работают языковые знаки. Такая поэзия кажется холодной (особенно по сравнению с киноработами Марсио-Андре), более того, она словно бы специально «высушена» и «обезвожена», лишена любых эмоций, которые могут сделать передаваемое сообщение менее ясным. Но в то же время это аналитика чувственности, пусть она и осуществляется на усложнённом, теоретичном языке.
Совсем другой случай – живущая в Берлине Аделаиде Иванова, представляющая тот извод активистской, политически ангажированной поэзии, который привлекает большой интерес во всём мире. Такая поэзия зачастую говорит намеренно упрощённым языком, не боится манипулировать чувствами читателя и претендует на то, чтобы быть оружием в борьбе за эмансипацию и свободу. Это поэзия ярости, которая действительно часто выглядит упрощённой, сведённой до жеста ненависти в сторону тех, кто творит несправедливость. И это, конечно, феминистская поэзия – написанная в эпоху #те1оо и перенимающая эстетику и политическую логику этого движения. Сейчас такая поэзия кажется наиболее универсальной и близкой читателю, но она же испытывает наибольший соблазн популизма, превращения определённого способа высказывания в узнаваемый и воспроизводимый приём.
Поэзии Ивановой чем-то созвучны стихи кубинки Хамилы Медины Риос, в которых также на переднем плане стоит феминистская повестка. Но их устройство кажется принципиально иным: феминизм становится для Медины ещё одним эпизодом в большом движении за освобождение человечества. Её поэзия в целом смотрит на мир через призму революционных движений, в ней тоже есть форсированная жестокость, безжалостное описание политических систем и социальных катастроф. Но её поэтический язык при этом крайне пластичен, он вбирает разные культурные контексты, стремится объёмно представить реальность. И даже если реальность чаще всего отталкивает поэтессу, она способна увидеть за ней неумолимую историческую логику, а следовательно, и смысл, который обретает политическая борьба, ведущаяся здесь и сейчас.