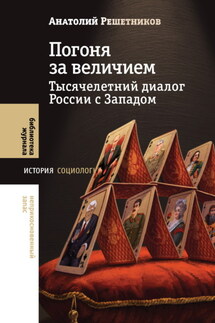Погоня за величием. Тысячелетний диалог России с Западом - страница 34
Если бы ваше государство было великое, то и архиепископ Упсальский не был бы записан в товарищах отца твоего… А советники Шведского королевства почему советники отцу твоему? А послы не от одного отца твоего, а от всего Шведского королевства, а отец твой во главе их, как староста в волости. И если бы отец твой был великим государем, то и архиепископ у него в товарищах не был бы, и советники и вся земля Шведская… приписаны не были бы, и послы были бы от одного твоего отца, а не от королевства Шведского… И тебе поэтому нельзя равняться с великими государями: у великих государей таких обычаев не ведется190.
Еще один существенный для Ивана аспект политического величия резко контрастирует с тем, как мы сегодня понимаем основные функции выборных правительств. В подлинно великом государстве тип отношений между правителем и народом, а также всем остальным государством – это отношения владения, а не управления или власти191. Объяснялось это опять же в религиозных терминах: великие правители получают свои полномочия от Бога, а не от народа. Неправильный тип взаимоотношений между правителем и народом составлял главное обвинение Ивана в адрес избранного короля Речи Посполитой – Стефана Батория. На этом же основании Иван, вероятно, рассматривал Речь Посполитую как неполноценное государство. В 1579 году Иван писал:
Мы государствуем от великого Рюрика 717 лет, а ты со вчерашнего дня на таком великом государстве, тебя… избрали народы и сословия королевства Польского и посадили тебя на эти государства управлять ими, а не владеть ими… [Н]ам же всемогущая Божья десница даровала государство, а не кто-либо из людей, и Божьей десницей и милостью владеем мы своим государством сами, а не от людей приемлем государство192.
Несмотря на то что в XVI веке Московское княжество проводило успешные завоевательные походы, было бы неверно соотносить политические претензии и риторическую снисходительность Ивана с объективной международной расстановкой сил во время его правления. У Ивана была репутация эксцентричного и взбалмошного правителя, и оскорбительные высказывания в его переписке не были редкостью (при том, что на поле боя мог побеждать Стефан Баторий). Таким образом, главной задачей этого подраздела является не оценка объективной расстановки сил в Европе XVI века, а интерпретация того, (1) как элита Московского княжества дискурсивно представляла себя по отношению к соседям, (2) какие риторические инструменты она использовала для утверждения и подтверждения своего статуса великой державы и почему, (3) как на эту дискурсивную репрезентацию повлиял первый (завоевательный) имперский опыт Ивана IV, подробно описанный современниками.
Позиция Ивана относительно истинного смысла политического величия была довольно простой и консервативной. Великому государству нужно поддерживать миф о божественном происхождении политической власти, что, по сути, делает государя неподотчетным перед собственным народом, но сохраняет подотчетность Богу. Во-вторых, великое государство должно быть организовано строго иерархично по принципу собственности, где один правитель владеет и распоряжается всеми подданными и имуществом. В целом то, что Иван понимал как наилучший способ правления, не является уникальным или даже особенным для той эпохи. Так, современник и одногодка Грозного, знаменитый французский юрист и политический философ Жан Боден похожим образом осмысливал природу верховной власти, подчеркивая, что она должна быть абсолютной, безусловной, неделимой, неограниченной, неподотчетной, а также безотзывной