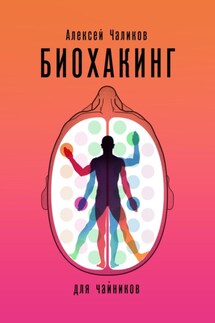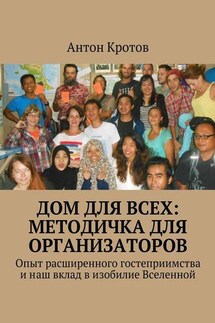Похвала праздности. Скептические эссе - страница 6
Самое же главное – на смену напряжению, усталости и несварению желудка придут радость и удовольствие от жизни. Умеренная работа будет вызывать не изнеможение, а лишь желание отдохнуть. Причем человек, не сильно уставший на работе, на досуге не будет предаваться лишь пассивным и бессодержательным развлечениям. По крайней мере один процент наверняка посвятит свободное от профессиональной деятельности время общественно важной работе; а раз в этих увлечениях не будет жизненной необходимости, то никто не станет ограничивать полет фантазии и не надо будет подстраиваться под стандарты, установленные признанными учеными мужами.
Преимущества увеличенного досуга проявятся во всем, не только в этих исключительных случаях. Обыкновенные мужчины и женщины, получив возможность жить счастливо, подобреют, станут менее требовательными и менее враждебными. Желание воевать отомрет отчасти по этой причине, а отчасти потому, что война будет означать возврат к долгой и изнурительной работе.
Среди всех моральных качеств мир больше всего нуждается в добродушии, а добродушие есть следствие легкой и безопасной жизни, а не постоянного преодоления. Современные средства производства дали нам возможность легкой и безопасной жизни для всех; а мы вместо этого решили завалить работой одних и заморить голодом других. До сих пор мы, как дураки, продолжаем работать с тем же усердием, что и до появления машин… Но не оставаться же нам дураками вечно!
Глава II
«Бесполезные» знания
«Знание – сила», – утверждал Фрэнсис Бэкон, который достиг больших высот, предавая друзей. Вывод этот, несомненно сделанный на основе личного опыта, едва ли справедлив в отношении любого знания.
Сэра Томаса Брауна, например, интересовало, какую песню пели сирены, однако сомневаюсь, что ответ на этот вопрос помог бы ему, городскому чиновнику, стать верховным шерифом графства. Бэкон явно имел в виду так называемые научные знания. Подчеркивая важность наук, он не ко времени возрождал традиции арабов и раннего Средневековья, согласно которым знания в основном касались астрологии, алхимии и фармакологии, относившихся тогда к отраслям науки. Ученым считался человек, постигший эти дисциплины и овладевший искусством магии. В начале одиннадцатого века лишь за то, что читал книги, папа Сильвестр II прослыл колдуном, продавшим душу дьяволу. Просперо, вымышленный персонаж Шекспира, в течение столетий являл собой обобщенный образ ученого, по крайней мере в том, что касалось его колдовской силы. Бэкон, как мы теперь убедились, не ошибался: волшебная палочка науки способна наделить таким могуществом, которое и не снилось некромантам прежних веков.
Эпоха Возрождения, во времена Бэкона достигшая в Англии своего пика, сопровождалась бунтом против чисто прагматического взгляда на знание. Древние греки знали Гомера так же, как мы – песни мюзик-холла, потому что он доставлял им удовольствие, и никто не считал это обучением. А вот жителям шестнадцатого века он не давался без серьезной лингвистической подготовки. Они восхищались греками и не желали отказывать себе в удовольствиях, копируя их как в чтении, так и в том, о чем не принято говорить открыто. Обучение перешло при Ренессансе в разряд joie de vivre[4] наряду с выпивкой и занятием любовью. Помимо литературы веяние это распространилось и на точные науки. Многим известна история о том, как Томас Гоббс открыл для себя Евклида. Наткнувшись случайно в книге на теорему Пифагора, Гоббс воскликнул: «Да быть того не может!» – и принялся читать доказательство с конца, пока не дошел до исходных аксиом, которые его наконец убедили. Без сомнения, в тот момент он испытал чистейшее наслаждение, неоскверненное мыслью о пользе геометрии для измерения земельных наделов.