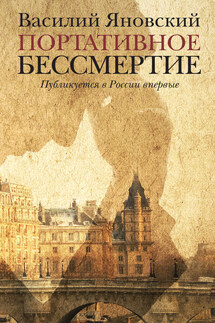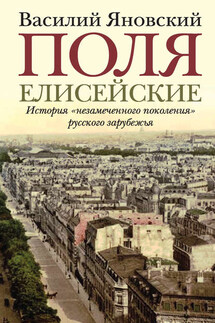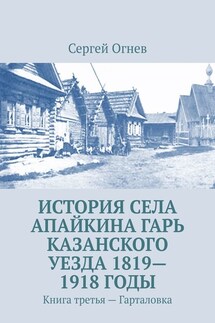Поля Елисейские. Книга памяти - страница 13
Мне пришлось быть свидетелем, как в продолжение целой ночи в удушливом подвале на Пляс Сен-Мишель, куда мы прошли после собрания в «Ла Болле», Борис говорил Фельзену «ты», а тот вежливо, но твердо отвечал на «вы». Много лет спустя Фельзен, оправдываясь, объяснял, что он не любит, когда его заставляют! (Как, должно быть, ему было мучительно в подлых немецких лапах.)
Эта ночь подобно кошмару тянулась без конца; Поплавский был точно на пороге эпилептического припадка, словно вся его жизнь вечная зависела от того, откликнется ли его собеседник на братское «ты».
В конце двадцатых годов Фельзен был еще новичком на Монпарнасе, известно было только, что его уважают Адамович, Ходасевич и многие богатые меценаты. Это, конечно, могло вначале повлиять на Поплавского, но дальше тяжба его была уже не карьерного порядка.
А беседа, между прочим, велась совсем неподходящая для Фельзена того периода. О святой Софии, о разбойнике на кресте, о римском патриции, осужденном на смерть и боящемся казни; его любовница вонзает себе в грудь кинжал и, улыбаясь, говорит: «Видишь, это совсем не страшно…» (Любимая история Поплавского.) Все эти его речи были пересыпаны интимнейшим «ты» в ожидании немедленного чуда, отклика, резонанса.
Поплавский приходил ко мне, часто в неурочный час, на рю Буттебри и слушал мои первые рассказы. Он находил в них «напор». После выхода романа «Мир» Борис повторил несколько раз, что я похож на человека, которому тесно: он постоянно всем наступает на ноги!
В его «Аполлоне Безобразове» воскресший Лазарь говорит «мерд»! В «Мире» у меня есть нечто похожее, и Поплавский жаловался на мою «плагиату». Когда я по рукописи доказал, что о прямом заимствовании не могло быть и речи, он грустно согласился:
– Да, все мы варимся в одном соку и становимся похожими.
Ссоры с ним регулярно сменялись полосами дружеского общения. Мы расхаживали по бесконечным парижским ярмаркам и базарам, по ботаническим и зоопаркам, приценивались к старинным мушкетам или к подзорным трубам эпохи армады. Иногда отдыхали в синема или подкреплялись неизменным кофе с круассаном. Я тогда верил в медицину и в февральскую стужу – чтобы предупредить бронхит, пил, обжигаясь, горячее сладкое молоко. Он издевался, придумывая разные забавные, а иногда и злые ситуации, потом распространял их как действительно имевшие место.
Придешь в следующую субботу к нашему общему другу Проценко – такой малороссийский Сократ, «учитель жизни», – не отличавшемуся, казалось, никакими формальными талантами, а оказавшему большое влияние на многих… Только зайдешь, еще стакана вина не предложили, а уже Проценко с деланной строгостью спросит:
– Что это, Василий Семеныч, неужели у вас в рассказе герои пьют конскую мочу?
До меня уже дошли слухи о новой проделке Поплавского, и я горько отбивался:
– Там сказано: «От запаха конской мочи першит в горле»… вот и все!
Любимым анекдотом Бориса был разговор, будто бы подслушанный им в Монте-Карло:
– Вы тоже мистик? – спрашивает один.
– Нет, я просто несчастный человек.
Или другая выдумка: монаху за молитвою все время является соблазнительный образ женщины.
– О чем просит этот анахорет? – осведомляется наконец Бог Саваоф.
– О женщине, – докладывают Ему.
– Ну, дайте ему жжееннщиину!
О каждом из своих друзей Поплавский знал что-то сокровенное или злое; впрочем, преподносил он это почти всегда снисходительно и мимоходом.