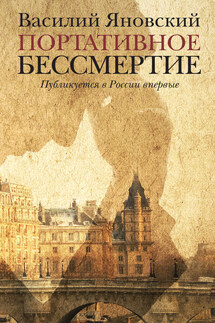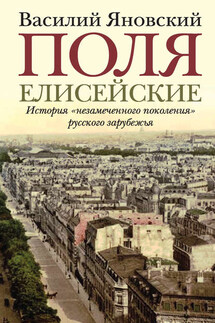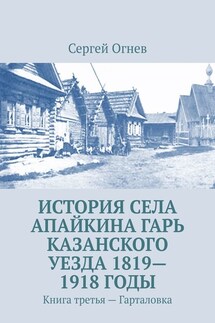Поля Елисейские. Книга памяти - страница 14
На мой вопрос, действительно ли фамилия одного нашего литератора чисто итальянская, Поплавский, сладко и болезненно жмурясь, объяснял:
– Он кавказский армянин. Знаешь, как Тер-Абрамианец, Тер-Апианец.
И улыбка падшего ангела озаряла землистое, одухотворенное лицо с темными колесами глаз.
В 1941 году я прочитал объявление в «Кандиде» о вернисаже выставки знаменитого художника Тер-Эшковича в Лионе… и вспомнил вдруг Поплавского. Кстати, Борис учился рисованию и хорошо разбирался в живописи, что, разумеется, не случайность в его жизни.
Чудилось – у Поплавского огромный запас витальных сил: вот-вот легко и походя опрокинет ставшего у него на пути… Но вдруг что-то срывалось: совсем неожиданно и ощутимо! Лопалась центральная пружина, и Поплавский застывал на всем бегу, точно зачарованный медиум, улыбаясь сонной улыбкой. И сдавался: соглашался, уступал, уходил!
Его мистическая жизнь была полна пугающих противоречий, и часто вокруг него собирались исключительные по насыщенности темные силы. Мне всегда чудилось: не устоит, не осилит! Ясно, что тут речь шла о другом плане, ибо в таланте или даже в гении ему никто не отказывал. Внутренне он чересчур спешил, тщась развить духовные мускулы так же непропорционально, как и свои бицепсы.
Отношения с Поплавским не могли быть ровными. С ним, единственным, кажется, из всех парижских литераторов, я дрался на кулаках в темном переулке у ателье Проценко, где веселились полупоэты и полушоферы с дамами. В этот вечер уже с самого начала Борис был уязвлен, приход Адамовича раздразнил его еще больше. Он вообще был чрезмерно чувствителен к отзывам печати, совсем не стараясь этого скрывать. Даже статейка заведомо глупого или ничтожного собрата все-таки действовала на него завораживающе. Эта черта, свойственная всей русской литературе, она в эмиграции развилась до уродства именно по причине совершенной тщетности и бесплодности нашей деятельности. Ну, похвалит тот, другой… Никаких обычных последствий ведь нельзя ожидать – то есть увеличения тиража, гонорара, почета!.. Сплошное какое-то почесывание пяток друг другу. Главное, рецензии эти воспринимались как последнее мерило, ибо не было еще одной инстанции – читателя!..
Что отношение может быть другим, я понял только позднее, попав в страны англосаксонской культуры. Там независимые джентльмены почитают за долг относиться равнодушно к тому, что другие джентльмены пишут о них по обязанности. За все время существования американской литературы вы не найдете статьи в духе того, что писал, скажем, Салтыков-Щедрин о своем современнике Достоевском.
Одно из самых потрясающих признаний, сделанных Буниным (их было немного), относилось именно к этой теме. Раз в «Доминике» поздно ночью, пропустив последнее метро, он мне сказал:
– Даже теперь еще… а сколько было… как только увижу свое имя в печати, и вот тут, – он поскреб пядью у себя в области сердца, – вот тут чувство, похожее на оргазм!
Что же обвинять Поплавского! Никто ему не подавал другого примера. К западу от Рейна постепенно укоренилось мнение, что если христианские отношения пока еще не установились в нашем обществе, то надо, по крайней мере, хотя бы вести себя прилично. Русское понимание comme il faut[40] относилось главным образом к чистой обуви и перчаткам, а отнюдь не к fair play[41]. А между тем с этим свойством общество не рождается, fair play можно только прививать.