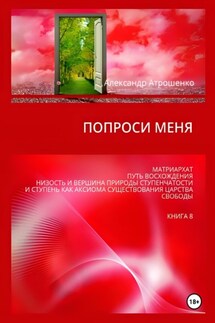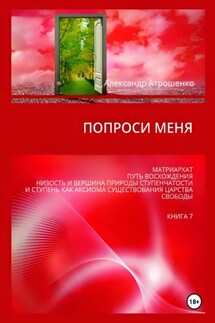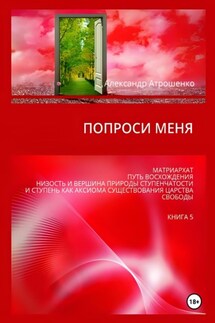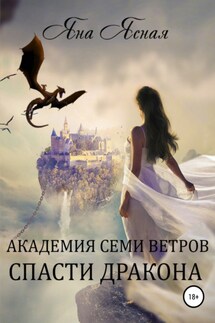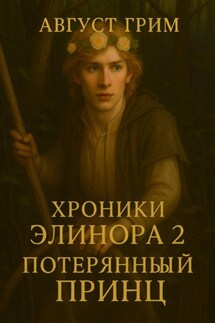Попроси меня. Т. VII - страница 9
В дневнике А.С. Суворина 8 сентября 1897 г. сделана запись: «Под 20 апр. приведены слова государя Баранову: "Конституция? Чтоб русский царь присягал каким то скотам?" Студенты публично "судили" государя, и прямо говорили в универ. совете, что они "плюют на все", "на всю империю"…
…7 сент. Государь велел Игнатьеву написать Лорису, чтоб он не приезжал в России. Государь сказал, что он знает, что Лорис держит себя, как главу оппозиционной партии, принимает журналистов, между прочим, Суворина, вообще, держит себя вызывающе.
…На записке Петра Шувалова надпись государя: "Чепуха русского аристократа, не знающего истории и жизни народа".
…"Созвездие стоит благоприятно" – из телегр. Делянова»39.
Курс Александра III у либеральных историков конца XIX начала XX веков получил название «контрреформ», то есть преобразование направленных против Великих реформ 1860-1870 гг. Конечно, речь не шла полностью вернуть страну в дореформенное состояние, абсурдность этого понимали самые консервативные круги. Либеральный общественный деятель В.А. Маклаков отмечал: «Я не могу себе представить, чтобы кто-нибудь в эти 80-ые годы мог серьезно желать не только возстановления крепостничества, но возвращения к прежним судам, к присутственным местам, времен Ревизора и Мертвых душ и т. д. Это кануло в вечность»40. Александровская контрреформа выглядела, главным образом, в новом насаждении уже не модных к этому времени старых мировоззрений незыблемости самодержавия и православия. Для этого отрицались любые либеральные и тем более конституционные поползновения – «гнилая интеллигенция»41, как называл Александр III всех либерально настроенных, – и сдерживалась капитализация общества, давая одним (по большей части дворянам) более выгодные, другим – менее выгодные условия для предпринимательства. По мнению историка С.С. Ольденбурга, во время правления императора Александра III в правительственных сферах наблюдались «не огульно-отрицательное, но во всяком случае критическое отношение к тому, что именовалось "прогрессом"; и стремление придать России больше внутренняго единства, путем утверждения первенства русских элементов страны»42.
После убийства Александра II народовольцы оказались под непрекращающимися ударами правительства и находились практически в изоляции. Одной из их последней акцией стало письмо Исполнительного комитета «Народной воли» Александра III. В нем содержался призыв принять представительство, после чего организация предлагала самороспуск. Но Александр III не пошел на этот политический компромисс. После ареста Желябова, Перовской, Михайлова, Кибальчича и других видных народовольцев, бегство за границу Тихомирова и Ошаниной в России остался лишь один член Исполнительного Комитета – В.Н. Фигнер. Она попыталась воссоединить организацию, опираясь на народовольческие кружки в Харькове и Одессе, но на ее пути встал начальник Санкт-Петербургского охранного отделения Г.П. Судейкин. Незаурядный руководитель жандармского ведомства, изучивший работу тайных полиций ведущих европейских стран и наладивший в России систему так называемой полицейской провокации (перевербовка члена революционного кружка или организации и попытка захвата с его помощью руководства в них либо создание вокруг своего агента новой революционной группы), Судейкин прославился еще в 1879 г. С помощью шпионки, подосланной в кружок киевских террористов, он сумел предотвратить покушение на Александра II. Ту же тактику он применил и в 1882 г. для поимки Фигнер. Перевербованный Судейкиным народоволец С.П. Дегаев выследил ее, после чего последовал арест. С помощью Дегаева шеф столичной охраны пытался позже создать послушную ему организацию террористов, что бы держать в постоянном напряжении императора и убирать несговорчивых министров, да и просто удачливых конкурентов. Затея Судейкина провалилась, он сам был убит революционерами в 1883 г.