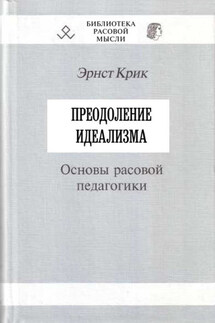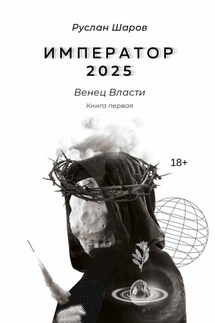Преодоление идеализма. Основы расовой педагогики - страница 27
Когда утром 4 августа 1914 г. учитель, работавший вместе со мной в школе, бледный как полотно сказал мне: «Сегодня ночью англичане объявили нам войну!», я подумал: Вот теперь история становится для нас современностью. Но что такое политика, я понял во время войны лишь медленно и с трудом. Канцлер Бетман и партийные вожаки не были образцами политиков. Когда я летом 1916 г. после недолгой и отнюдь не героической службы вернулся из казарм, я с жадностью набросился на работу, впервые сблизив друг с другом идеи, действительность и практические задачи. С этого началось для меня преодоление эпигонского позитивизма, а также не и менее эпигонского неоидеализма, так как я понял, что политика это организация жизни народа, история в процессе становления, воплощение живого смысла и проявление характера. Но после пришлось преодолевать еще многие «идеалистические» рецидивы. Мой путь вел от идеологии к такой картине истории, которая формирует действительность и человека и указывает дорогу в будущее. Но достигнув прорыва в одном направлении, я на другом отступал. До окончательной победы было еще далеко.
Документом моего неоидеалистичесокого периода является моя первая работа «Личность и культура», вышедшая в свет после шести лет работы параллельно с преподаванием в школе по 28–30 часов в неделю. Работа была для меня одновременно учебой: я самоучкой прошел академический курс. Мои формулировки были незрелыми, но в зародыше они содержали все, что было изложено мной более четко позже, в период с 1914 по 1940 год, в частности, в книге «Человек в истории».
Достопамятный факт: молодой, неизвестный учитель народной школы из Мангейма, который до того не напечатал ни одной строчки и не имел никаких «связей», сумел привлечь внимание общественности своей книгой, до сих пор остающейся самой большой из написанных мною.
Есть особые причины того, что человек после 40 лет профессиональной и 30 лет писательской деятельности, за которые мир радикально изменился, а от юношеского радикализма остались одни воспоминания, возвращается к своей первой книге и тем самым рассказывает о своем становлении. Но я должен, во-первых, четко заявить эпигонствующим неоидеалистам, которые сегодня монополизировали чуть не все кафедры философии, что я с моим неоидеализмом первого десятилетия XX века, документом которого является книга «Личность и культура», не только опередил их, но кроме того, обновление идеализма далось мне не так легко, как нынешним, потому что я все должен был изучать и усваивать сам, а не получил в готовом виде от учителей. Далее: я видел, что необходимо не только обновление, но и преодоление идеализма, чтобы нам не застрять на месте, а самим ставить и решать задачи, идти от идеи к действительности, а не бежать от действительности в мир идей. Я не вношу это задним числом в ту книгу, которая содержит достаточно много положений, остающихся в силе и сегодня: все это четко написано в предисловии к той книге. У меня не было живого учителя. Но и философы прошлого не были для меня непререкаемыми авторитетами. У меня были свои подходы, и я следовал свои прямым путем. Таким же свободным и независимым, каким я был тогда, работая, не будучи ничем обязанным ни одному человеку, следуя только внутренней необходимости, я остался до сих пор. За всю свою жизнь я никогда не шел по чьим-либо следам.