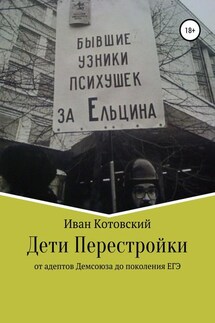Промывка мозгов. Машина пропаганды Гитлера и Геббельса - страница 2
В этой книге я не собирался исследовать германский кинематограф времен войны, но в целях более полного понимания того, чем была нацистская пропаганда, весьма полезно проанализировать некоторые фильмы. Нацистское видение войны и врагов рейха достигло кульминационной точки в многочисленных художественных фильмах в период между 1940–1944 годами. Эти фильмы, которые смотрели миллионы немцев, были идеальным выражением национал-социалистического мировоззрения.
Уникальная природа национал-социалистической пропаганды лежала в сочетании в ней черт, характерных для военной пропаганды в других странах, с ее собственной демонологией и идеализмом, имевшим хождение лишь в контексте исторического опыта и культурных традиций германского народа. Эта уникальность объясняет различие, которое наблюдалось между пропагандой, предназначенной непосредственно для немцев, и той, что была нацелена на вражеские войска и гражданское население стран противника. Домашняя пропаганда была очень действенной, когда речь шла о том, чтобы сплотить нацию, даже когда страна оказалась на грани поражения. Пропаганда, направленная против вражеских стран, особым успехом не пользовалась. Уму Геббельса было доступно обратиться лишь к немцам, причем командным тоном. Окрики ничуть не были наигранными, но при обращении к чужакам никакого действия не возымели. Это был провал, но почувствовали его только закаленные дипломаты старой школы. Даже когда Геббельс, в конце концов, заговорил о «Европе», то говорил о ней как немец, обращавшийся к немцам. Несомненно, кучка самовлюбленных поклонников нацистов и несколько заблудших идеалистов за границами рейха поверили в эту идею, но она все равно была обречена на крах. Дело в том, что «Европа» в понимании нацистов представляла собой огромное, опустошенное войной пространство, находящееся под германским контролем. Но эта пропагандистская уступка, сделанная из-за все более ухудшавшегося положения на фронтах, не имела успеха внутри границ рейха. Призывы к победе или смерти, крики о триумфе германского народа, об опасности засилья евреев, о зверином оскале большевизма, о тотальном триумфе или полном поражении, о самопожертвовании и смерти, о конце немецкой нации были куда действеннее для мобилизации. Вот это и стало именно той войной, которую Гитлер выиграл при помощи Геббельса, человека, которого он избрал своим преемником. Нацисты апеллировали к высшим ценностям немецкого народа и извратили их. Они использовали самые низменные инстинкты нации-неудачницы и развернули небывалую по успеху кампанию, основанную на идеализме и ненависти.
Трудно переоценить роль войны в основополагающих нацистских догмах. Это эра войны подвергла испытанию на прочность способность пропагандистского аппарата оказывать воздействие на общественное мнение и мораль в период глобальных конфликтов. Начав в 1939 году с попыток дать быстрое объяснение молниеносно меняющейся внешнеполитической ситуации, нацистская пропаганда военного периода закончила провозглашением идеи о последней миссии национал-социализма. Эта идея отражала думы и чаяния нацистов о символах, на которые немцы отзовутся чувством обновленной веры в тотальную победу. Выступая в роли карающих победителей, но полные ужаса и растерянности перед грядущим поражением, нацистские идеологи не скупились на разного рода символы, которые, как они полагали, должны были дойти до сердца немецкого обывателя: «героизм», «жертва», «еврейство», «капиталисты», «большевики», «Фридрих Великий», «Вероломный Альбион», «массовые убийства», «ненависть к Германии». Одни символы уходят в восемнадцатое столетие, другие были взяты из первых лет после окончания первой мировой войны. Они служили элементами словесно-символических структур – главного инструмента нацистских пропагандистов. Бессовестная кампания якобы справедливого возмущения, ненависть, гибель тысяч людей как ее результат, могли быть, следовательно, поданы в виде мер необходимой обороны, в случае всеобщего противоборства чужеродным доктринам.
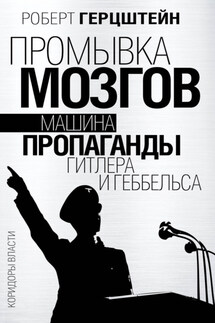

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)