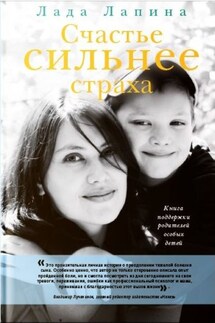Пространственно-ориентированная Психология - страница 56
Клиенты с подавленным сенсорным уровнем часто приходят с жалобами, которые на первый взгляд кажутся размытыми и трудно дифференцируемыми: “непонятная тревога”, “ощущение, что я не в себе”, “как будто нет энергии вообще”, “пространство как пластмасса – всё какое-то одинаковое”. Они могут описывать общее снижение жизненного тонуса, раздражительность, ощущение оторванности от реальности, но при этом не способны локализовать источник этих ощущений.
Если в ходе беседы задать уточняющий вопрос: “Как ты чувствуешь себя телом прямо сейчас? Где в теле напряжение?”, они часто теряются, задумываются надолго или отвечают в обобщенной форме: “Ну, вроде нормально…”. Это ключевая особенность – неспособность идентифицировать собственные телесные сигналы, такие как голод, жажда, усталость, желание изменить позу, ощущение холода или жара. Клиент может рассказать, что “вдруг начал дрожать от голода в 5 вечера”, потому что “просто не заметил, что не ел весь день”. Или описать мигрень как «внезапно свалившуюся», хотя напряжение в теле копилось с утра и он забывал пить воду.
Эти люди не столько игнорируют тело сознательно, сколько живут “над” ним, воспринимая себя преимущественно через когнитивную или функциональную призму: “Я справляюсь”, “Я должен сделать это”, “Я не должен капризничать”. В их внутреннем мире тело зачастую воспринимается как технический инструмент, обслуживающий сознание, но не как активный участник переживания.
Пространство в таком восприятии утрачивает чувственный статус. Оно становится нейтральным фоном, выполняющим функцию, но не вызывающим отклика. Если спросить клиента, как он ощущает свое рабочее место, он может ответить: “Ну, обычный офис. Что тут чувствовать?” Или: “Дома всё удобно, но я не могу расслабиться”. Среда теряет эмоциональный, тактильный и телесный резонанс. Клиент не слышит, как пространство звучит в теле, – не чувствует тяжёлого воздуха, давления со стороны стен, покалывания от слишком холодного света, воспринимает температуру в помещении только на высоком контрасте. Все ощущается обезличенно и абстрактно, через общие определения: «чисто», «светло», «ничего особенного».
Такая форма восприятия часто формируется как адаптация к среде с повышенными требованиями и недостаточной эмоциональной безопасностью. Например, в детстве клиента могли поощрять за собранность, серьёзность, игнорирование слабости и одновременно обесценивать телесные потребности “не жалуйся, всё это у тебя в голове”, “просто не выдумывай, ты же мальчик”, высокая вероятность травмирующих событий. В результате сформировалась отчужденность от телесного Я, невозможность использовать тело как инструмент саморегуляции.
Важно отметить, что у таких клиентов может наблюдаться и вторичная тревожность, связанная с телом. Именно потому, что телесные сигналы не отслеживаются в моменте, тело начинает говорить через резкие и трудноуправляемые проявления, паническую атаку, вегетативные симптомы, головокружение, обмороки. Всё это воспринимается как вторжение в его функциональную жизнь, что еще больше усиливает отстраненность от телесного уровня.
В консультативной и терапевтической работе с такими клиентами крайне важно не только обсуждать восприятие среды, но и начинать процесс возвращения телесного присутствия в пространство. Через простые практики внимания к дыханию, теплу, опоре, структуре поверхностей, запахам и звукам можно постепенно активизировать сенсорный уровень и тем самым вернуть клиенту доступ к естественным каналам регуляции – тактильному, температурному, телесно-ориентированному. И только после этого пространство начнёт восприниматься не как пустой контейнер, а как среда, способная удерживать, поддерживать и восстанавливать.