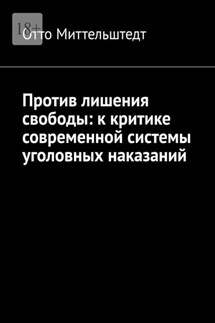Против лишения свободы: к критике современной системы уголовных наказаний - страница 2
Восьмая часть настоящего сочинения, безусловно, самая спорная. Если вопросы критики решены, на мой взгляд, совершенно безупречно, то вопросы выбора иных инструментов уголовной политики взамен лишения свободы решены, на мой взгляд, совершенно неудовлетворительно. Чувствуется, что автор подходит к решению этого вопроса вынужденно, не по собственному выстраданному желанию но в силу логики повествования. Вот что он говорит: «Поскольку, однако, я предвижу, что просто отрицательная критика нелегко избежит упрека в том, что она лишена какого-либо практически полезного содержания, что она порицает, не будучи в состоянии улучшить, и поскольку она может, по крайней мере, способствовать дальнейшему просвещению, чтобы более резко высветить мысли и намерения критика, подчеркнув контраст в позитивном ключе, я не буду уклоняться от задачи завершить статью, сформулировав, по крайней мере, в нескольких общих предложениях, те идеи, которые кажутся мне наиболее существенными для реформы существующей системы наказаний».
Каков же его рецепт?
Во-первых, отказаться от попыток исправления преступника в ходе исполнения наказания в виде лишения свободы. Во-вторых – вернуть в систему наказаний принудительный труд, и ранжировать наказания не в зависимости от их срока, но в зависимости от тяжести труда сопряженного с их исполнением. В третьих – учреждение специализированных уголовно-воспитательных пенитенциарных учреждений для несовершеннолетних. В четвертых – организация интернатов для престарелых профессиональных преступников, в которые они по приговору суда могли бы быть водворены пожизненно. В пятых – постепенное увеличение доли наказаний, не связанных с лишением свободы – под этим подразумевается смертная казнь, ссылка, не калечащие телесные наказания, штрафы и конфискации, позорящие наказания.
В этом вопросе я, конечно, далеко не полностью согласен с Миттельштедтом. Наша, советская пенитенциарная система, вместе с пенитенциарными системами иных социалистических стран прошла рекомендованный автором путь организации принудительного труда, и в общем-то до сих пор остается на этой дороге, несмотря на отказ от наиболее экстремальных его форм. В принципе, можно говорить о том, что рецепт Миттельштедта был реализован – и показал вполне неудовлетворительные результаты. Пытаясь дать ответ на поставленный Миттельштедтом вопрос, я пришел к выводу, что вполне возможно полностью отказаться от наказаний в виде лишения свободы, принудительного труда всех видов, а также ссылки как замены большинства тяжких и особо тяжких преступлений. Фундаментальные социальные, технологические, экономические изменения, произошедшие в последние 150 лет, полагаю, создали для этого все условия. Подробному раскрытию этих вопросов как раз и посвящен мой труд – полагаю, Миттельштедт оценил бы его положительно. Собственные рецепты Миттельштедта кажутся недостаточно радикальными, связанными косной силой привычки – не он ли сам говорил об ее слепой силе.
С другой стороны, те его предложения, которые касаются увеличения роли наказаний, не связанных с лишением свободы – вполне заслуживают поддержки.
Говоря о пенитенциарной и уголовной обстановке в Германии 70-х годах XIX века, можно обнаружить много сходного с современной российской действительностью, но также много и различий. Сходство обуславливаются тем, что наша система – это прямая наследница системы германской, в некоторых случаях – практически ее слепок. Различий, собственно, два – это тот факт, что описываемые в книге события пришлись на эпоху индустриализации и урбанизации, которые с неизбежностью приводили к взрывному росту преступности по социальным причинам, ну и второй факт – это эксперименты Германии того времени по использованию одиночного заключения. Тем не менее, не смотря на то, что критика системы одиночного заключения вряд ли будет для нас интересна, общая критика наказания в виде лишения свободы за прошедшие полтора века, на мой взгляд, совершенно не потеряла своей актуальности.