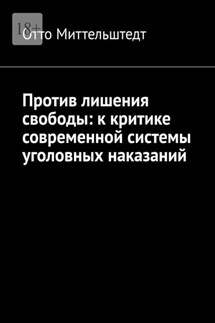Против лишения свободы: к критике современной системы уголовных наказаний - страница 5
Таким образом, в этом вводном рассуждении можно еще раз повторить тезис о том, что как на низких, так и на высокоразвитых ступенях цивилизации проходили века и тысячелетия без необходимости в тех средствах наказания, которые мы привыкли относить к категории «лишение свободы». Конечно, везде, где обитал человек, были и подземелья, загоны или клетки, которые можно назвать тюрьмами, и во все времена люди знали, как лишить равных себе не только свободы, но и жизни. С начала всей юридической истории врагов страны, народа, общего мира схватывали и заключали в тюрьму, как только их задерживали, будь то для того, чтобы предать их смерти, рабству или изгнанию, будь то для того, чтобы дать им погибнуть в тюрьме, будь то для того, чтобы время от времени возвращать их на свободу с выкупом или без него. Однако как формы борьбы и орудия войны темницы всегда занимали свое место и выполняли свои задачи, ничем не отличаясь от защиты и оружия, цепей и уз, а также всех прочих средств физического насилия. В мои намерения не входит замалчивать или отрицать столь очевидные факты. Но – и только это я имею в виду – Восток, античный мир, Средневековье и современность вплоть до середины прошлого века знали в качестве объекта наказания не естественную свободу, а исключительно жизнь, тело и имущество, Родину и общину, то есть всегда физическую сущность человека с непосредственно осязаемыми и разрушаемыми чувственными дополнениями. Странная, однако, идея рассматривать человеческую свободу, это воплощение пустых абстракций, как существо из плоти и крови, как позитивную сущность, принадлежащую самостоятельной личности, обращаться с ней как с делимым имуществом, устанавливать твердо градуированные, относительно эквивалентные правовые отношения между различными временными мерами несвободы вообще и различными юридически сформулированными категориями преступлений в частности – на этой идее покоится все уголовное право современности – эта идея, которая на первый взгляд так же непостижима для рассудка, как и для живого осуществления, принадлежит исключительно нашему веку.
Поэтому мне кажется, что стоит немного подробнее рассмотреть, как такая идея зародилась в общественном сознании, как она обрела плоть, и как постепенно стала доминировать в юридической жизни. Не обременяя эти мимолетные страницы слишком тяжелым историко-правовым материалом, я кратко напомню те исторические факты, которые имеют непосредственное отношение к предмету моего исследования. Каковы были правовые средства наказания в Германии сто лет назад, до того как в уголовном праве наступила эпоха правильного судебного законодательства Фридриха-Вильгельма II и Франца-Иосифа, эпоха, основанная на разуме, гуманности и государственном подходе?3 Уголовно-процессуальный кодекс императора Карла V все еще составлял тогда основу уголовной юриспруденции. Поверх нее лежал беспорядочный подлесок дико разросшейся практики немецких судов. «Каролина»4, однако, не знает вовсе наказания в виде лишения свободы на определенный срок; она знает только смертельные и калечащие наказания в жестоком изобретательном разнообразии5. И даже практика, боровшаяся против кровавой суровости этой судебной системы, выступала скорее против самых жестоких форм смертной казни, против увечий и бессмысленных пыток осужденных, за исключение из уголовного права многочисленных преступлений, достойных смерти – ереси, колдовства, чародейства и т. д., чем за то, чтобы перенести власть наказания с плоти человека на совершенно бесплотную свободу, и сделать ее своим исключительным объектом.