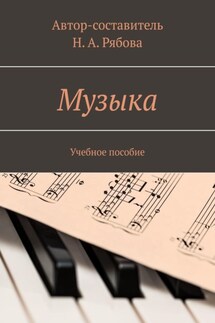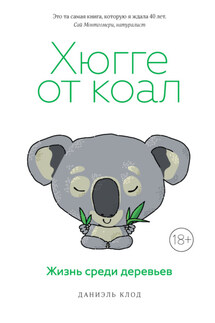Психика и сознание: два языка культуры. Книга 1. Капли океана - страница 25
, востребованного в полном объеме только лишь в философии, тем, что задачи первого и второго несопоставимы; следовательно, несопоставима и их личностная значимость.
Специализированный ум, доведенный до совершенства, делает человека гением; а интеллектуальный гений – это всего лишь способность оперировать специальной информацией, способность обнаруживать и выстраивать взаимоотношения структурных элементов в системах. Это ум – системный. Причем, закономерности одной системы не распространяются на все остальные, аналогии здесь весьма условны.
Отсюда парадоксальный результат: чем более разбирается специализированный ум в своей узкой сфере, чем больше у человека уходит на это времени и сил – тем менее он представляет из себя что-либо достойное внимания как личность.
Универсальный интеллект прежде всего видит ограниченные возможности системного подхода как такового. Противоречия системы и целостности, противоречия всех составляющих универсума – в центре внимания этого «божественного» по возможностям интеллекта. Самое важное – всеохватный ум вынужден решать главную задачу: проблему возникновения, функционирования и развития духовного мира человека. Духовный мир как момент универсума открывает свои тайны могучим всеобъемлющим умам и личностям.
Гении – духовно скудны, хотя к гораздо более авторитетны, чем философы. Это и понятно: гений в конечном счете специализируется на все более и более совершенном извлечении материальных благ. Ему – слава и почет. Ум универсальный только объясняет жизнь, смерть, человека, космос, честно признавая свои скромные возможности серьезно что-либо изменить в этом лучшем, но далеком от совершенства мире. «Пользы» от такого ума куда меньше – соответственно, меньше признания.
Неразграничение двух типов ума, двух разных по возможностям субъектам познания мира на руку только тем, кто абсолютизирует первый и боится второго.
Чистая мысль, – освобожденная от идеологических примесей, дистанцированная от потребностей мыслителя – если рассмотреть ее сквозь призму человеческих интересов, превращается в страшное оружие или в беспомощное блеянье, в истину либо заблуждение, в пророчество или лепет безумца; но никогда чистая мысль не остается равной себе.
Очищенная от интересов мысль никому и не интересна. Гораздо более похожа на истину мысль идеологическая, представляющая интересы многих, очень многих людей. За такие мысли (т. е. за свои потребности) – в огонь и в воду; они охотно подхватываются, тиражируются, комментируются. Таким мыслям верят (или не верят, что означает: верят другим идеологическим мыслям, выражающим контринтересы); такие мысли дарят надежду, с ними любовь превращается в инструмент достижения счастья.
Вера, надежда, любовь, счастье – на одной чаше весов; на другой – чистая мысль, осуществляющая божественный, но бескорыстный к безотносительный к каким бы то ни было интересам, акт прикосновения к истине. Надо утратить чистоту, неангажированность мысли, чтобы предъявить людям претензию за их малодушное отречение от чистой мысли: они всего лишь предпочитают то, без чего нельзя прожить, тому, без чего прожить можно.
Проблема (как видится это чистому мышлению) заключается не в предпочтении «истины» – «счастью» (или наоборот), а в совмещении несовместимых полюсов. Проблема в том, что только чистые мыслители знают истинную цену психоидеологическим химерам – и потому не отвергают их. Проблема в том, что потребность совмещения реальности и ее иллюзорного отражения, и даже сама постановка вопроса в такой плоскости, возможны только со стороны мыслителя. Ревнители идеологических отношений не видят смысла в совмещении, поскольку своим главным врагом они всегда принципиально считали, и не могут не считать, чистую мысль, направленную на нейтрализацию идеологии как таковой. Идеологическое отношение не знает отношений чистой мысли.