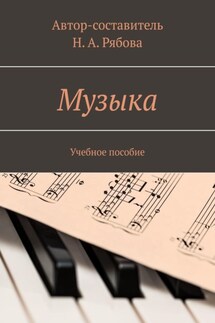Психика и сознание: два языка культуры. Книга 1. Капли океана - страница 3
Надо же видеть, что честным и справедливым может быть только сориентированный на истину интеллект. Психика же всегда даст субъективную, т. е. искаженную картину действительности и заставит человека хитрить и подличать, поскольку именно психика беспринципно «разворачивает» реальность нужной стороной, представляя объективную данность такой, какой она соответствует потребностям, но не самой себе. Суть принципа приспособления крайне проста: вижу не то, что есть, а то, что мне выгодно видеть.
Вот почему наиболее выигрышным отношением к человеку со стороны другого человека является любовь; это возвышает и того, кто любит, и того, кого любят, ибо любить – значит понимать и прощать психические слабости своих ближних, да и несовершенство «себя любимого». Иначе говоря, любовь блестяще реализует принцип приспособления. Уважать же человека очень трудно, поскольку уважения достойны те, кто осознает свои психические слабости именно как слабости, честно признавая изъяны собственной моральной природы и создавая тем самым предпосылки для того, чтобы в известной мере презирать себя. Уважение – многокомпонентное и весьма интеллектуальное чувство, в очень значительной степени включающее в себя критерии разума. Людей, которых нельзя не уважать, крайне мало. В указанном смысле извечный вопрос пьяного русского «ты меня уважаешь» следует признать изысканно и экзистенциально точным – как претензию на призвание реальных достоинств.
Я прекрасно понимаю тех кристально честных (и перед собой, и перед истиной) и искренних людей, которые приходят к абсолютно верному (в границах их космоса) заключению: без высших сил – существование мира немыслимо. Невозможно. Мир рухнет. У него не будет опоры. И они становятся фанатиками веры из чистых побуждений, служа лучшему, что есть в человеке.
Они изумительно тонко и глубоко прочувствовали: их родной, свойственный им идеологизированный тип сознания иначе существовать не может. И им кажется, что они безоговорочно правы; они и рады бы допустить другое мнение, но оно настолько противоречит всему их жизненному опыту, что невозможно заставить себя серьезно с ним считаться. Они абсолютизируют свой тип сознания и полагают, не без оснований, что все люди таковы, да еще сила традиций, мощь авторитетов, всеобщее невежество…
Проблема заключается в том, что существует и иной – рациональный – тип сознания. И эти два типа сознания буквально думают и говорят на разных языках. Поскольку для «идеолога» язык «мыслителя» непонятен, его все равно что и нет. Носитель же рационального сознания способен понять куцую идеологическую логику, но не способен разъяснить своему оппоненту природу его заблуждения. Связь получается односторонняя, а закономерность общения вырисовывается следующая: чем более честен, искренен, образован и на свой лад умен идеолог – тем меньше возможности для продуктивного диалога между ним и мыслителем. Приходится констатировать: наличествуют разные духовные породы людей. И очень большой вопрос: все ли способны подниматься вверх по эволюционной лестнице сознания? Пока что мыслители безнадежно одиноки.
Хозяин жизни – идеолог. Не будем спешить объявлять эту ненормальную с точки зрения мыслителя ситуацию абсурдной. Ситуация «горе от ума» – уже банальна. И в ней есть свой смысл, своя «сермяжная» правда.
Возможно, дело обстоит таким образом, что люди, не сбиваясь в крепкое «стадо», попросту не выживут. А непременным условием эффективного стадообразного существования является наличие объединительной идеологии. Природа и социум ставят предел, во-первых, количеству личностей-мыслителей, а во-вторых, «качеству» личностей в стаде: они должны настолько нуждаться в общественном организме (в т. ч. духовно-идеологически), чтобы сама оппозиция «личность – стадо» не возникала в их сознании. Будьте личностями – но в рамках идеологии. Тогда худо-бедно будут стада и пастыри, будет жизнь. Альтернативный вариант мать-природа, очевидно, не слишком жалует.