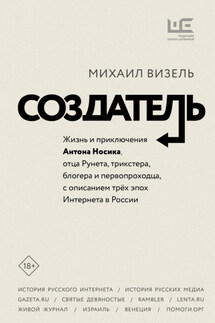Пушкин. Болдино. Карантин. Хроника самоизоляции 1830 года - страница 3
– написал он в сердцах своей конфидентке Е. М. Хитрово.
Но всякое некстати может оказаться кстати: он решил воспользоваться неожиданной заминкой, чтобы войти в права собственности. «Смерть дяди моего, Василья Львовича Пушкина, и хлопоты по сему печальному случаю расстроили опять мои обстоятельства. Не успел я выйти из долга, как опять принужден был задолжать. На днях отправляюсь я в нижегородскую деревню, дабы вступить во владение оной. Надежда моя на Вас одних. От Вас одних зависит решение судьбы моей», – объяснялся он перед отъездом с Афанасием Николаевичем Гончаровым, дедом невесты. Последняя фраза может показаться преувеличением: конечно, Афанасий Николаевич был старшим Гончаровым и, формально, главой рода, но все-таки шел 1830 год, а не 1630-й, так что без его формального благословения, пожалуй, легко можно было бы обойтись. А вот без обещанного им внучке приданого – куда сложнее. Вот Пушкин и хлопотал по его делам и, сдерживаясь, писал почтительные письма.
Правда, уезжая вступать в права собственности, он не был уверен, что сумеет этой собственностью воспользоваться в матримониальных целях: прямо перед отъездом будущая теща в очередной раз устроила «самую нелепую сцену, какую только можно себе представить. Она мне наговорила вещей, которых я по чести не мог стерпеть», – как написал он близкой подруге, княгине Вере Вяземской. Так что «не знаю еще, расстроилась ли моя женитьба, но повод для этого налицо, и я оставил дверь открытой настежь».
Вера Вяземская – достойная пара своего мужа: знатна (урожденная княжна Гагарина), умна, свободна от предрассудков. Что в совокупности сделало ее одним из немногих близких друзей Пушкина из числа женщин. Которой он поверял свои огорчения и любовные неудачи
В подтверждение своих слов Пушкин в самом конце августа прямо написал Наталье:
Я уезжаю в Нижний, не зная, что меня ждет в будущем. Если ваша матушка решила расторгнуть нашу помолвку, а вы решили повиноваться ей, – я подпишусь под всеми предлогами, какие ей угодно будет выставить, даже если они будут так же основательны, как сцена, устроенная ею мне вчера, и как оскорбления, которыми ей угодно меня осыпать. Быть может, она права, а не прав был я, на мгновение поверив, что счастье создано для меня. Во всяком случае, вы совершенно свободны; что же касается меня, то заверяю вас честным словом, что буду принадлежать только вам, или никогда не женюсь.
Можно себе представить, с каким чувством 31-летний Александр подъезжал к вотчине, в которой ему предстояло решать хозяйственные вопросы. Ради чего все это? Ради кого? И неудивительно, что его не отпугнули разговоры о холере, из-за которой уже пришлось раньше времени свернуть традиционную крупнейшую Макарьевскую ярмарку, и о возможных карантинах. Какая теперь разница… Через год в заметке «О холере» Пушкин описал это очень живо:
На дороге встретил я Макарьевскую ярманку, прогнанную холерой. Бедная ярманка! она бежала, как пойманная воровка, разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барыши!
Воротиться казалось мне малодушием; я поехал далее, как, может быть, случалось вам ехать на поединок: с досадой и большой неохотой.
Макарьевская ярмарка, получившая название от Макарьевского Желтоводского монастыря в 100 км от Нижнего Новгорода, у впадания в Волгу реки Керженец, действовала в 1641–1816 годах и считалась крупнейший в России. После чего, перестав помещаться у стен монастыря, была перенесена в Нижний Новгород, но сохранила название