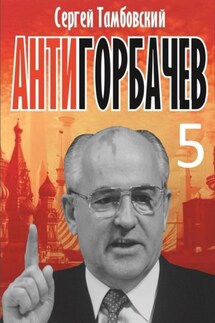«Пушкин наш, советский!». Очерки по истории филологической науки в сталинскую эпоху. Идеи. Проекты. Персоны - страница 17
Или возьмем нашу русскую литературу. Неверно, что старая русская литература отражала только навыки и чувства богачей, дворян и князей. <…> Наши разночинцы писали не только о своих навыках и чувствах; в своих произведениях они главное внимание сосредоточивали на крестьянине, на бедноте, на общих условиях царского строя. Достаточно вспомнить Некрасова, Успенского, Короленко, а из критиков-публицистов – Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева. <…> Даже тогда, когда русская интеллигенция, после 1905 г., стала «умнеть», отходить от революции, преемственность и связь литературы с литературой разночинцев никогда не нарушалась. М. Горький, И. Шмелев, В. Вересаев, Ив. Вольнов, Серафимович, Скиталец отправлялись от лучших заветов шести- и семидесятников68.
И далее:
Мы ни на минуту не сомневаемся, что все это не хуже нас известно редакции «На посту» – но привычка оперировать где попало словами «буржуазный», «контрреволюционный», но общий схематизм, но увлечение хлесткой фразой, но невнимательное и неряшливое отношение к вопросам литературной жизни в прошлом и в настоящем, но размах с плеча там, где требуется утонченное и осмотрительное отношение к вопросу, но развязность, но уверенность, что писатель все проглотит, лишь бы было горячо, – приводит к общим местам и положениям, звучащим твердо и неукоснительно, но, к сожалению, без достаточных оснований, если не считать достаточным основанием, употребляя выражение одного урядника, «легкость и бодрость в функции» и героическую решимость блуждать даже в трех соснах69.
Вердикт напостовцам прозвучал отчетливо и внятно: «<…> они, – утверждал Воронский, – нигде не проводят грани между суб<ъ>ективным и об<ъ>ективным в художественном произведении, отчего „идеология“ целиком совпадает с содержанием»70. Обвинение это было прямым и резким, и состояло в том, что пролеткритика отказывала «новой» литературе в истории: вопреки положениям марксистской историософии, революционная случайность, а не эволюционная закономерность становилась первопричиной существования «советской культуры» как «надстройки», оторванной от «базиса».
Тезис о неизбежной и необходимой политизации литературного творчества стал, с одной стороны, стимулом к обострению конкурентной борьбы, а с другой – поводом к отрицанию значимости непролетарских – «попутнических» (Л. Д. Троцкий) – литературных групп и отдельных авторов71. В статье «Под обстрелом», опубликованной в 1923 году в сдвоенном номере журнала «На посту», С. А. Родов, полемизируя с А. К. Воронским, писал: