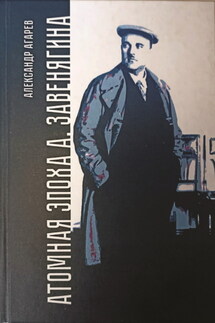«Пушкин наш, советский!». Очерки по истории филологической науки в сталинскую эпоху. Идеи. Проекты. Персоны - страница 24
– В понятие классической литературы я не вкладываю никакого специфически-художественного или идеологического содержания. Для меня это история литературы, куда я отношу любую высококвалифицированную, но уже отстоявшуюся во времени литературную линию. Таким образом, последними классиками я считаю футуристов (И. Л. Сельвинский);
– Художественные произведения более отодвинувшегося прошлого, огромная ценность которых общепризнана (А. С. Серафимович);
– Под понятием «классическая литература» я понимаю лучшую русскую литературу, которая, благодаря своему художественно-общественному уровню, живет не годы, не десятилетия, а целые эпохи. Вторым признаком определения классической литературы я считаю наличие в ней отражения своей эпохи (И. П. Уткин).
Куда меньше расхождений обнаруживают ответы на вопрос о влиянии классиков. Опрошенные упомянули Гоголя (11 из 15), Л. Толстого (9 из 15), Пушкина (9 из 15), Достоевского (7 из 15), Тургенева (5 из 15), Лермонтова (4 из 15), Чехова (4 из 15), Горького (3 из 15), Гончарова (2 из 15) и Бунина (2 из 15); единожды были упомянуты Маяковский, Некрасов, Салтыков (Щедрин), А. Толстой, а также Бодлер, Бялик, Верлен, Вольтер, Гамсун, Гарт, Гейне, Дюма, Золя, Мольер, Мопассан, Стивенсон и Франс. Но произвольно расширяющийся перечень имен не обладал достаточным теоретическим потенциалом, чтобы на его основе был выработан обобщенный портрет классика.
Кроме того, по мысли пролеткритиков, далеко не каждая национальная культура располагала своими классиками, пригодными для исполнения функции литературного «образца»; ср.:
Старая литература узбеков (как и некоторых других народов Востока) является литературой баев, мулл и т. д. Она насквозь пропитана духом боевого исламизма и национальной нетерпимости. Таким образом, этих «классиков» использовать почти невозможно. Вот почему, между прочим, мы видим, как медленно, с трудом создаются организации пролетарских и крестьянских писателей в ряде стран советского Востока102.
В условиях господства российского империализма в Казахстане в прошлом не могло создаться не только классической литературы, <…> но и светской литературы в полном смысле этого слова. В прошлом мы имели три категории литературы: устной (народной), религиозной и зачатки советской националистической. <…> До революции у нас не было классической литературы. Классическая литература начала создаваться лишь после Октябрьской революции103.
Из этого якобы следовало, что «русская классика» теряла номинально присущий ей идентитарный характер и становилась общим «наследством» – основанием, на котором позднее будет возведена «советская многонациональная литература»104. (Это, в свою очередь, не оставляло республиканским авторам возможности творческого выбора: подражать следовало тем писателям, которые оказались в рамках классического канона, потому как такое подражание было единственным надежным способом преодолеть замкнутость национальной литературной традиции и проникнуть в пространство социалистического искусства.) Однако речь скорее должна идти как раз о реализации национально-специфической колониальной идеологии, заключенной в классике как в одной из наиболее стабильных категорий культуры. Подтверждение этой мысли прочитывается в тревожных словах В. А. Сутырина, прозвучавших с трибуны Первого Всесоюзного съезда пролетарских писателей на вечернем заседании 4 мая 1928 года: