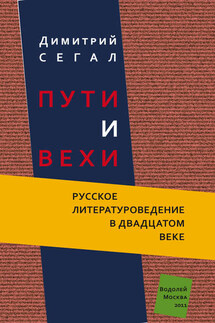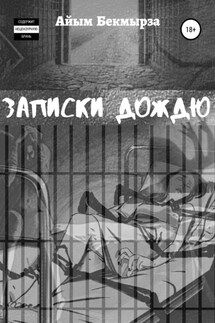Пути и вехи. Русское литературоведение в двадцатом веке - страница 14
Исследования О.М. Фрейденберг выполнены на совершенно ином материале, чем труд В.Я. Проппа. Здесь речь идет не только о материале народной словесности, но и о всей античной традиции – главным образом, о греческой, эллинистической и римской литературе, с привлечением также и древневосточного материала, особенно Библии и Нового Завета. При этом все время ощущается живая связь этих традиций с европейской литературой последующих периодов, включая Средневековье и Новое время. Книга О.М. Фрейденберг – это, по существу, фундаментальное исследование основ литературной традиции.
Если книга В.Я. Проппа реконструирует единый «хронотоп» волшебной сказки, состоящий из целой цепи связанных друг с другом локусов, то исследование О.М. Фрейденберг следует совсем по иному пути. Выявляются смысловые единицы и структуры, свойственные определенному типу жанра, а затем эти структуры сопоставляются со структурами, соответствующими жанру другого типа. Главное – это, во-первых, должное выявление и описание этих типов, соответствующих тем или иным стадиям развития культуры, согласно положениям того варианта «нового учения о языке», в разработке которого принимала деятельное участие сама О.М. Фрейденберг, а во-вторых, точное и объективное сопоставление этих смысловых единиц – мотивов.
О.М. Фрейденберг вычленяет один глубинный ядерный мотив, который, по ее мнению, проходит через все эпохи древней ближневосточной, античной, эллинистической и христианской культуры и в преображенном виде доходит и до наших дней. Это мотив ритуального жертвоприношения мальчика или юноши. Мотив этот может выступать как в своей прямой форме, так и в семантически трансформированном виде посредством тропов, а также сюжетных вариаций и смены кодов. Эти трансформации и вариации и есть механизм литературной эволюции.
Согласно концепции О.М. Фрейденберг, основной мотив ритуального жертвоприношения может выступать в двух модусах – действия, всегда имеющего культовый – от чисто обрядового до сублимированного – характер, и представления, существующего, опять-таки, либо в имагинативном показе, либо в описании (текст). Ритуальное действие может быть представлено либо в своей полноте, как целый сюжет убиения, расчленения, поглощения, либо синекдохически – только через убиение, или только через расчленение (разрывание), или только через поглощение, либо их комбинации. Синекдоха может сочетаться с детализацией и порождением все новых звеньев, этапов тех или иных отдельных действий и их агентов, пациентов, атрибутов, локусов и проч., что может рождать независимые сюжеты, как, например, закапывание отрубленного пальца и его последующее выращивание в виде дерева и т.п.
О.М. Фрейденберг видит в тематике и мотивах еды важнейший рефлекс первоначальной идеи ритуального жертвоприношения. Соответственно, все античные и более поздние жанры, связанные с едой и ее описанием, получают важное место в истории литературной эволюции. Здесь, по Фрейденберг, соседствуют два фундаментальных экзистенциальных плана: план смерти (того, кого едят или что едят – серьезное, скорбное, мрачное) и план жизни, нового рождения, воскресения (светлое, оптимистическое, радостное). Но новое рождение сулят не только тому, кто ест, но и тому, кого съели. По Фрейденберг, «акт смерти и акт еды все время встает перед нами в виде устойчивого и непреодолимого омонима». У греков, говорит она, покойники непрерывно едят и пьют, будучи освобождены от земных забот. Проглатывая, человек оживляет объект еды, оживая и сам.