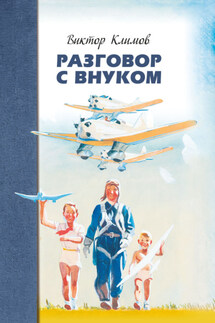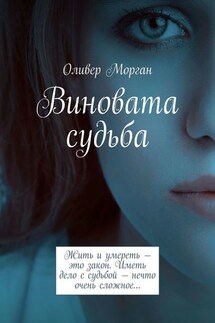Разговор с внуком - страница 29
По окраинам Липецк все же больше напоминал мне деревню – почти половина домов были деревянными, крытыми обычно прямой соломой. Мусора и грязи на дороге хватало. Конский навоз устилал плохую брусчатку сантиметровым слоем дурно пахнущей жижи, но весенние ручейки, что текли по улицам, смывали ее. Конец города был в том месте, где сейчас находится Центральный рынок, а от железнодорожного вокзала и до Сокола шла улица «Одноличка», по другой стороне которой был Быханов сад. Как помню, жила на ней фамилия Бессоновых и еще три или четыре семейства – вот и вся улица до Сокола.
Мы вначале на Соколе сняли угол. А потом папа купил мазанку на Спиртзаводе>15. Ну, не мазанку, но и полноценным домом это строение никак нельзя было назвать. Скорее, это был своего рода амбар, обмазанный снаружи и внутри глиной от пожара и для утепления, а сверху крытый соломой. Это потом, уже после войны, мы привели дом в божеский вид. Отец попросил: «Витя, помоги построить дом». Вдвоем с Русланой помогали деньгами, дом довели до ума. Папа потом все любил повторять фразу: «Вот эта половина дома – ваша, другая половина – Руслане».
Надо сказать, что сама жизнь коренным образом изменила липчан. На стройку заводов потянулись выходцы из поселков и окрестных деревень вместе со своими семьями. Они принесли с собой не только особый акающий говорок, но и грубоватые крестьянские нравы с недоверием к любым приезжим. Была такая своеобразная полугородская-полудеревенская среда на Спиртзаводе, да и в Липецке в целом. Как точно подметил поэт Демьян Бедный:
Это я в полной мере почувствовал на себе, когда влился в новый для себя школьный коллектив. В моей памяти шумный класс. Посередине я, новичок, – настороженный, колючий, готовый к отпору. За столами ученики – десятки пар внимательно-любопытных глаз. По взглядам, которые они бросали в мою сторону, я почувствовал, что понравился девочкам и вызвал любопытство и настороженность мальчишек. На перемене ребята спрашивают: «Ты новичок?» Я говорю: «Новичок». Они ничего не сказали мне, но сразу против меня группа организовалась.
Оказалось, что в классе процветал культ силы и неприязни к чужакам. Я же себя в обиду не давал – отвечал жестко, умел за себя постоять, несмотря на маленький рост, и никогда не жаловался родителям или учителям. Невозмутимое спокойствие, с которым я встречал своих противников, возымело свое действие – все обидчики и забияки вскоре от меня отстали. Для них я долгое время оставался «не своим», чужим. Из-за моего внешнего вида, отутюженных брюк, независимой манеры поведения и правильной, книжной речи.
Я никогда не называл огород «садом», при объяснении направления или места употреблял предлог «в», а не «на», говорил «хочешь», а не «хотишь» с ударением на второй слог, называл свеклу свеклою, а не «бураком». Различие состояло и в том, что я предпочитал ботинки сапогам, считая, что сапоги, как правило, служат рабочей обувью.
Позже выяснилось, что предметом горячей зависти сверстников был мой значок Ворошиловского стрелка, красовавшийся на лацкане пиджака. Его вручили мне в День Красной Армии за выполнение стрелковых норм в юношеской секции. В мариупольской школе в Гуглино не было малокалиберного оружия, и военрук взял на себя ответственность: мы стреляли из настоящего, боевого. У меня очень хорошо, здорово это пошло. И я получил «Ворошиловский стрелок» – он был престижен не меньше, чем, скажем, орден Красного Знамени. Ни у кого из моих липецких однокашников такой регалии не было.