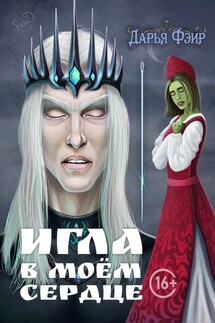Разговоры о русском балете: Комментарии к новейшей истории - страница 9
Что касается литературоцентричности русского балетного театра, то, помимо менталитета, который вообще является вещью загадочной, таинственной и непонятной, здесь не обойтись без понятия социальный заказ. Социальный заказ власти – новой власти – состоял в том, что в балете все должно быть рассказано, все должно быть понятно. Этого требовал Наркомат, а потом и Министерство культуры. Этого совершенно не требовалось ни от Всеволожского, ни от Петипа, но этого требовали от Юрия Николаевича Григоровича. Начался период двойного давления: сверху – власти, снизу – аудитории. Начался совершенно катастрофический период истории нашего балета – мещанский.
ГЕРШЕНЗОН: Охарактеризуйте подробней этот феномен, который я определил бы как социокультурную катастрофу и который я не считаю периодом – мещанство буквально на клеточном уровне вошло в состав сегодняшних российских художественных процессов. Итак, что имеете в виду вы?
ГАЕВСКИЙ: Началось объединенное наступление на Большой балет властей и потребителей с очень невоспитанным вкусом, которым после войны дано было право свои вкусы не только объявлять, но и заставлять с этими вкусами считаться, чего не было никогда, даже после революции. После революции в балет приходили люди понимающие и не понимающие, но эти последние понимали, что их непонимание – порок и что они должны дорасти до понимания этого искусства. Отношение к балету было основано на пиетете абсолютном у всех зрителей, не только у балетоманов. Если говорить о социокультурной катастрофе, то она началась сразу после войны, когда то, что называется толпой, почувствовало себя вправе что-то диктовать. Толпа стала диктовать музыкантам, и 1948 год – разгром музыки – возник именно на волне этого еще не сформулированного требования. Жданов его сформулировал. Когда мы говорим о том, что какие-то колхозники обсуждали симфонию Шостаковича, роман Пастернака и голосовали, не слушая и не читая, это не совсем комическая история. Жданов высказал то, что хотели, но не могли высказать люди, совершенно не приобщенные к культуре, но получившие право думать, что они являются людьми какой-то новой культуры, – потому это имело успех, потому Шостакович начал мучительно думать о том, что он идет неправильным путем. Один только Прокофьев никогда не подчинял ни себя, ни свой художественный дар требованиям «широкого слушателя»; как человек абсолютно независимый, он обладал удивительным свойством выполнять любой социальный заказ с сознанием того, что это именно социальный заказ, – в этом его грандиозность. Но это же предопределило его болезнь и раннюю смерть. Вот что случилось. Сегодня мало кто думает и вспоминает об этом – все мы ругаем власть, но мы никогда не позволяем себе ругать публику.
ГЕРШЕНЗОН: Объединенное наступление на искусство власти и толпы характерно исключительно для Москвы? Мне кажется, в Ленинграде все было трагичней.
ГАЕВСКИЙ: Что касается балета, в Ленинграде все происходящее было не так заметно, потому что там пиетет к балету был исторически незыблем. Кировский театр мог защищать свои порядки – Большой театр ничего защищать не мог, несмотря на то что в Большом театре была Плисецкая, а потом появились Максимова с Васильевым, Лиепа, Бессмертнова. Все это я очень хорошо помню. Это трудно перевести на язык каких-то действий – действия производила власть, но власть в данном случае опиралась на общественное мнение или же, замечательным образом его чувствуя, формулировала. Власть не всегда может сломить очень сильного художника – если это не власть Сталина, как в случае с Федором Лопуховым. Хрущевская и брежневская министерша Фурцева не обладала такой абсолютной властью, тем более авторитетом. Она была женщина жесткая, властная, но она не была олицетворением власти как таковой. Она была болтлива, сентиментальна, но способна была и на замечательные поступки: ей обязан Григорович приглашением в Большой театр, она пригласила Юрия Петровича Любимова возглавить Таганку. Потом она кричала, закрывала спектакли, но, повторю, за Фурцевой стояла не только власть. В драматической судьбе нашего искусства зловещую роль сыграло то самое «агрессивнопослушное большинство», о котором говорил Юрий Афанасьев в своем знаменитом выступлении на I Съезде народных депутатов. Когда оно получало возможность, оно освистывало Шостаковича – оно могло освистать кого угодно. Знаете, за чем артисты так рвались на Запад? За славой? Да. За деньгами? Да. Но не только. За другой атмосферой, за другими зрителями. Это очень важно, но мы об этом все время забываем. Никто в Америке, стране совсем недавно темной, где Баланчин проваливался в течение многих лет, – никто в Америке не создавал такой чудовищной атмосферы, потому что там публика могла просто не ходить в театр Баланчина. Она ходила в Метрополитен Оперу, на Бродвей, еще куда-то, но диктовать свои представления об искусстве, навязывать их кому бы то ни было американцы, народ в этом смысле довольно скромный, никогда бы не решились.