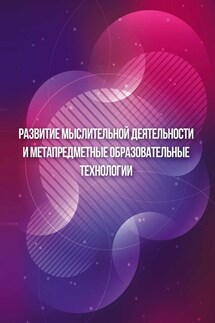Развитие мыслительной деятельности и метапредметные образовательные технологии - страница 3
Я еще остановлюсь на различии языка и речи, здесь лишь укажу на очевидный момент, заключающийся в том, что речь, в отличие от языка, может быть использована для обозначения не только конкретных вещей, но и определенных абстракций. А это значит, что у человека в процессе онтогенеза возникает внутренняя структура такого уровня, что она перестает только отражать внешний мир, она обретает самостоятельное существование, создавая образы несуществующих в природе вещей, их конструкций. Все это позволяет человеку сначала мысленно, а затем и практически создавать новое, которое является содержанием человеческой культуры и цивилизации в целом.
Для иллюстрации этой мысли интересно рассмотреть феномен возникновения мышления у человека. Чаще всего это явление связывают с усложнением деятельности человека, появлением речи и развитием труда[3].
Между тем, применение к этому положению эволюционной теории, в частности концепции естественного отбора, не подразумевает наследования приобретенных признаков, поэтому появление внутреннего усложнения психики, обеспечивающее и мышление, и речь, и возможность эффективно участвовать в совместном труде, должна была появиться раньше прочего.
Эту идею подтверждают многочисленные наскальные рисунки древних людей, происхождение которых никак нельзя объяснить необходимостью совместного планирования деятельности, и легко объясняется появлением внутренней структуры, абстрактного заместителя внешнего мира, мира внутреннего. Осознание его существования, вероятно, вызвало шок у первобытного человека и предопределило необходимость перенести внешние образы наружу, рассказать о них своим соплеменникам.
Таким образом, речь является также инструментом представления внутреннего мира, поскольку для обеспечения жизнедеятельности человека (особенно на ранних этапах эволюции) является избыточной по своему объему и разнообразию. Язык нужен для обозначения объектов внешних, установлений указаний на них для совместной деятельности, а речь появилась для того, чтобы иметь возможность описать то, что находится во внутреннем мире человека. Соответственно, речь более совершенна, более инструментальна потому, что внутренние объекты скрыты, на них нельзя показать пальцем, по ним можно только согласовываться.
Может показаться, что самая последняя мысль спорная. Конечно это так, я не специалист в этой области, но она нужна лишь как иллюстрация того, что мы сейчас делаем. Это своего рода моя авторская картина мира (части мира), упрощенная, но логичная и самодостаточная. Для того чтобы понять что-либо, нужно иметь пусть упрощенное, модельное, представление об этом объекте, но зато «укладывающееся в голове».
Да что говорить, все представленное здесь, по сути, есть модель мышления, которая нужна для того, чтобы представление об этом интересном феномене стало рабочим, и мы могли с ним работать далее. Существует множество других моделей интеллекта, как такового, и мышления как проявления интеллекта. Наибольший интерес представляют модели, которые можно представить в виде схемы, поскольку они более наглядны, и соответственно, в большей степени подходят для решения основной задачи – понимания сути феномена.
Среди таких моделей интересна методологическая модель, представляющая интеллект в виде пяти досок. Такое представление разработано в рамках отечественной методологической школы (П.Г. Щедровицкий, О.С.Анисимов и др.). Эти пять методологических досок представляют так называемый «план сознания»: ситуативная, проектная, заданная, концептуальная и ценностная. Это представление основано на различении различных процедур, протекающих в голове человека и достаточно наглядно представимо при рассмотрении процессов перехода содержания из одной формы в другую.