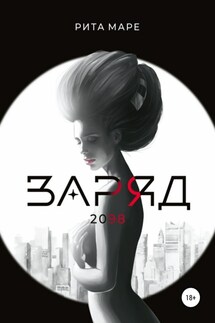Реабилитированный Есенин - страница 33
Таким образом, в компании с имажинистами оказались поэты Андрей Белый, Василий Каменский, Борис Пастернак и некоторые другие, чьи дороги и в будущем пролегали вдалеке от этого литературного течения. Потому можно предполагать, что Мариенгоф и на этот раз солгал, сообщив в «Романе с друзьями» о том, что К. Еремеев изначально планировал сборник «Явь» только для мариенгофских «башибузуков». Вот что пишет по этому поводу в своей книге американский профессор Борис Большун:
«Остается лишь предположить, что Мариенгоф несколько исказил реальные события и “Явь” планировалась как обычный очередной поэтический сборник, где давалось место будущим имажинистам, и куда, для гарантии успеха, был приглашен такой крупный поэт, как Борис Пастернак».
Соглашаясь с первой частью этой фразы, считаем необходимым здесь же возразить Б. Большуну относительно второй ее половины. «Гарантировать успех сборника» благодаря стихам Б. Пастернака Мариенгоф даже не собирался. Иначе отвел бы ему не три страницы, а восемь, как, например, своему единомышленнику и соратнику Вадиму Шершеневичу или футуристу Василию Каменскому.
Во-первых, известность Б. Пастернака к концу 1918 года, несмотря на его 28-летний возраст не была слишком заметной. Его больше знали как сына академика живописи Л. О. Пастернака. К тому времени он выпустил всего лишь два сборника, когда С. Есенин имел уже шесть, хотя ему исполнилось только 23 года.
Во-вторых, и это главное, – у Анатолия Мариенгофа к Борису Пастернаку особых симпатий никогда не было. Скорее, наоборот.
В подтверждение сказанного приведем цитату из письма будущего «романиста» Сергею Есенину, когда последний находился вместе с Айседорой Дункан в зарубежной поездке. Оно было опубликовано автором во втором номере журнала имажинистов «Гостиница для путешествующих в прекрасном» (1923 год), который Есенин поручил ему редактировать:
«Знаешь, я кем последнее время восхищаюсь и кто положительно гениально пользует родное сырье и дурачит отечественных ископаемых – Борис Пастернак.
У человека лирического чувства на пятачок, темка короче фокстерьерного хвоста, чувствование языка местечковое. Зачастую такие строчки:
Синтаксис одесского анекдота в интерпретации Виктора Хенкина.
В целом не стихи, а магазин случайных вещей. На одной полочке: калоша треугольник, одеколон “Одор-ди-фемина” и роскошное издание Игоря Северянина в парчевом переплете. Не могу удержаться от удовольствия, чтобы лишний раз не порадовать тебя цитатой из этого достойного автора:
Что это такое, как не развратничанье образом – образом всегда внешним и ничем не оправданным (в данном случае “поэзия” она тебе и “пригород, а не припев” и “осанка сладкогласца” и “лето с местом в 3 классе” и с одинаковым равноправием: ночная туфля с продранной пяткой, а не стеариновая свеча, керченская селедка, а не созвездие “лебедя” и т. д. и так до бесконечности (пунктуация оригинала. – П. Р.).
Пастернака необходимо читать нашим молодым последователям. Пастернак – самое лютое кривое зеркало имажинизма. На Пастернаке следует учиться: как нельзя пользоваться метафорой. Его словесные деяния лучшее доказательство того, что самые незыблемые поэтические догматы, если их воспринять внешне и с утрировкой, немедля становятся трюковым приемом, абракадаброй, за которой весьма удобно прятать скромненькое обывательское “Я”, пустое сердце и отсутствие миросозерцания».