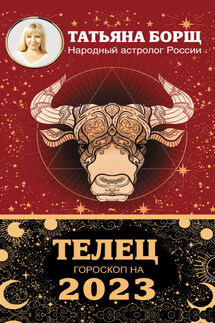Род. Роман - страница 17
Одесса пока жила еще прежней жизнью. Она не знала о свершившемся…
Глава III
С тех пор, как мой экипаж завернул на дорогу, выезжая из ворот «Плесецкого», где я похоронил свою юность, – с тех пор прошло четыре года… Я, как старик с разбитыми ногами, сижу один в чужом городе, наряженный в больничный синий халат. Тем более невероятно кажется мне письмо твое, написанное тем же почерком, теми же словами юности! (В меня вошли силы от этих слов и подкрепили мой дух. Спасибо тебе!) Ты спрашиваешь о моем здоровье. Ты улыбаешься: я состарился, но старость не сделала меня разумным, и я не верю сам себе! Мне страшно думать о человеке, который войдет в дом моего сердца, ибо там тюрьма.
Милый друг!
Я думаю, что за четыре года скитаний, разбитый, со сломанными ногами я искупил перед Богом свою вину, а ты, счастливая, давно забыла меня, а, значит, и простила.
В тот день, когда я получил предписание ехать на фронт, (23 августа 1914 г.), меня известили о твоей свадьбе! Теперь, когда я при смерти, я узнаю, что ты стала матерью. Господь с тобою! Наши судьбы различны, но я верю, что моя дружеская любовь к тебе – радостное желание сил твоему мужу и ребенку оправдают в твоем сердце то, что я назвал тебя другом.
Коля Бруни
Петроград, 26 октября 1917 г. Революционные матросы блокировали подходы к посольствам иностранных держав. Товарищ Чечерин вынужден во избежание обострения и так очень напряженной политической обстановки разрешить ряду посольств выехать из Петрограда в свои страны. 27 октября, побросав посольское имущество, спешно выехали представители посольств Англии, Франции, Норвегии, Испании и ряда других государств в страны, которые они представляли.
Было разрешено выехать норвежскому посланнику господину Кристенсену с его женой и детьми. Однако он не уехал, и семья еще на долгие годы осталась в России.
Из дневника Н. А. Бруни
Одесса, октябрь, 31, 1917 г.
Я больше не буду оправдывать себя!.. Мое глубокое отчаяние, мое душевное опустошение не помогут, нет! Но есть истина, которая стоит, как смерть, у моей постели – любви той, незапятнанной, гениальной, той любви нет! Той любви, когда я был, как оживший тополь, тяжелый весенними соками… Ее нет, нет ее, которую я называл бессмертной. И не будет ее, она не придет! Мы не научились ценить друг друга, а любовь есть то, что любо, чем любуешься. Но мы не научились любоваться друг другом! Любоваться собою! Любоваться любовью! О! Подойди к возлюбленной своей, и ты сделаешься прекраснее, ибо ты затаишь в себе восхищение!
2
Холодный ноябрьский день нес тонкие и колючие струйки сухого снега, загоняя сугробы в самые потаенные уголки московских дворов. Ветер выл в печных трубах, вызывая грусть из глубин девичьей души Ани. В доме было как-то необычно пусто. Отец с утра уехал в клинику, Маша теперь не жила с ними, мама отправилась по своим хозяйским делам.
Аня с самого утра никак не могла найти себе по душе занятие, ходила по дому, прибывая в меланхолии. Она ждала чего-то неприятного. В голове мелькали картинки из воспоминаний дней ее недавнего детства. В этом году ей исполнилось девятнадцать лет. Она невольно поймала себя на мысли, что во всех сегодняшних воспоминаниях обязательно присутствует милый юноша Коленька Бруни. То они вместе с Ниночкой Бальмонт, Коленькой и Левушкой катаются на коньках на Патриарших прудах, то Коленька с ее мамой в четыре руки играют Шопена, а вот Коленька читает свои стихи, разрумянившийся и взволнованный. «Коленька, Коленька, друг ты мой милый! Я, кажется, понимаю: он мне дорог, бесконечно дорог. А может это …? – она сама испугалась недодуманного слова, покраснела и тут же мысленно улыбнулась. – Да, да, конечно, я люблю его. Он такой милый. Но он так давно не бывал у нас. Он, наверное, стал совсем взрослым и что ему теперь до нее, молоденькой девушки? – она взглянула в окно, на дворе уже наступали ранние осенние сумерки. – Что же это я так расхандрилась, нужно чем-нибудь заняться, нехорошо бездельничать». Аня зажгла лампу, взяла в руки книгу и села в гостиной на диван. Чтение не получалось, в голову лезли воспоминания, и в них обязательно был Николай.