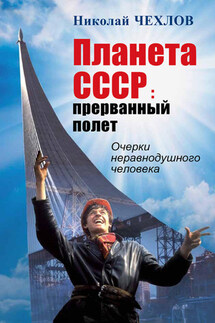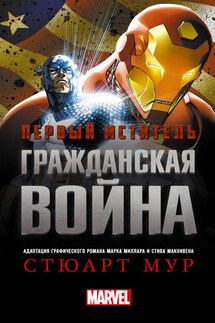Россия и Дон. История донского казачества 1549—1917. - страница 20
Социальный антагонизм проявился на Дону в третьей четверти XVII в. довольно остро. Он был одной из главных причин крушения донской независимости. Старшина казачья стала, естественно, тянуть в сторону Москвы. Бояре московские очень ухаживали за старшинами во время приезда их в Москву в составе ежегодных казачьих посольств («зимовых станиц»). Царь дарил старшинам богатые дары: в Москве явно, на Дону, через своих послов – тайно. Московская партия, создавшаяся на Дону в половине XVII в., состояла преимущественно из старшин. Однако не надежда получить от царя поместья на Руси, не грубый подкуп заставляли в конце XVII в. казачьих старшин обращать свои взоры к Москве. Их социально-экономические интересы начинали уже отделяться от интересов общины. Переход от охотничьего быта к скотоводству, а затем и к земледелию, пользование рабским и наемным трудом для охраны табунов и стад, для обработки земли, для услуг; накопление богатств в руках старшин – все это выделяло старшин из единой прежде среды казачества. Обособленное положение старшин в казачьей среде, стремление их стать независимыми от воли демократической массы, желание обеспечить обработку своих земель принудительным трудом крепостных, жажда почета соответственно создавшемуся социальному положению – все это заставляло старшин оглядываться невольно на Москву, на московское поместное дворянство, вздыхать о дворянском звании, о праве владеть крепостными. Процесс превращения старшин в дворян длился полтора века и закончился лишь в начале XIX столетия. Однако тенденции к разделению единой социальной массы казачества на две неравные группы наметились уже во второй половине XVII столетия.
Приведенные выше сведения о населении вольной колонии русского народа на Дону говорят нам о том, что общественная организация колонии, благодаря ее примитивности, представляет собой в XVI–XVII вв. нечто цельное, монолитное. Все члены общины равны между собою и в политическом, и в социальном отношении. Все они ясно чувствуют свою обособленность, и социальную, и политическую, от остального русского народа. Казачество ревниво охраняло право своего звания. Казачье посольство в Москве, зимою 1640 г., просило правительство расследовать, «для чего» некий Ив. Поленов «живет на Москве и донским казаком называется»[57].
Чтобы стать полноправным гражданином Донской республики, нужно было быть принятым в казаки. Для этого требовалось заявление в войсковом кругу и согласие круга. Далеко не все получали это согласие Войска. Нужно было пожить на Дону, иногда лет 5–7, войти в местную жизнь, зарекомендовать себя, и тогда уже давалось разрешение на прием в казаки. Отказ в приеме мотивировался иногда политическими причинами: так, опасались принимать азиатских выходцев. Экономические причины отказа заключались в нежелании казачества превысить норму, на которую давалось так называемое «царское жалованье», то есть субсидия, выдаваемая московским правительством Донскому Войску за вспомогательную службу казаков в войсках царя и за охрану Войском безопасности южной границы царства.
В случае нужды в людях Войско предписывало станицам представить списки бурлаков, живших по городкам не один год и носивших поэтому особое название «озимейных бурлаков» (дословно зазимовавших), проводивших на Дону не только время летних работ, но живших и зимою, то есть весь год сплошь. Войско, по представлению станиц, избирало из числа «озимейных бурлаков» лучших и достойнейших и записывало их в звание служилых казаков