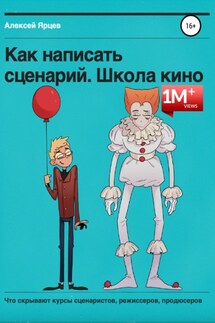Россия и мусульманский мир № 12 / 2016 - страница 13
Постсоветский период открыл новые проблемы и новые возможности в изучении истории и современного состояния ислама в России и в Татарстане. Это было обусловлено повышением значения исламского фактора во внутренней политике Российского государства, а также тем, что процессы посткоммунистической либерализации благоприятно сказались и на положении мусульман, и на состоянии науки. С одной стороны, стали поощряться исследования многих, в том числе зарубежных, ученых, при этом выбор тематики исламоведческого исследования, методологические установки и подходы к пониманию проблем уже не регламентировались государством, как это было раньше. На этой позитивной волне татарское научное сообщество получило возможность начать восстанавливать свои позиции в области исламоведения. С другой стороны, в целом благоприятно изменились и условия развития самих мусульман: укрепилось политико-правовое и материальное положение их общин и официальных структур, вырос уровень информированности и активности мусульманской общественности – все это стало представлять собой гораздо более масштабную и более сложно структурированную, чем раньше, социальную реальность.
В постсоветский период наметился также определенный сдвиг в преодолении мусульманами Татарстана чувства провинциальной заброшенности в мире ислама. Как сообщество, они всегда испытывали сложность в том, чтобы считать себя полноценной частью мира ислама, поскольку в традиционном понимании самим этим миром своей идентичности отсутствует понятие мусульманской общины, существующей за его пределами, в немусульманской стране. Неслучайно в классическом исламском праве такая ситуация даже не предусмотрена. В прежние времена проблему усугубляло то, что контакты Татарстана со странами мусульманского мира были искусственно минимизированы и ограничивались чисто производственными связями, не имевшими никакого общественного значения. Например, столица Татарстана – Казань была практически исключена из числа городов, разрешенных для посещения и длительного пребывания мусульман-иностранцев, включая дипломатов, ученых, студентов, артистов, общественных и религиозных деятелей. Сегодня же мы видим огромный прогресс в развитии Татарстаном таких непосредственных контактов, поскольку отношение к ним со стороны внешнеполитических ведомств России стало значительно более либеральным. Принципиально новую ситуацию характеризует помимо прочего уже то, что в Казани функционируют консульства Ирана и Турции – факт, символизирующий в глазах мусульманской общественности Татарстана исторический прорыв ее длительной политической изоляции от стран исламского мира. Укреплению чувства причастности российских мусульман к миру ислама не могло не способствовать также предоставление России в 2005 г. статуса наблюдателя в Организации «Исламская конференция».
К сожалению, на фоне этих позитивных изменений все же сохраняются определенные препятствия для объективного непредвзятого исследования современной проблематики ислама. Прежде всего, это та общественная атмосфера подозрительности вокруг мусульман и ислама в целом, которая сложилась сегодня не только в России в связи с обострением опасности экстремизма и терроризма. По признанию авторитетных российских исламоведов, в массовом сознании, СМИ и даже на уровне государственных учреждений нередко культивируется заведомо негативный, излишне политизированный образ ислама. Хотя сегодня такая тенденциозность уже не выглядит столь же безнадежно неодолимой, какой она действительно была в советское время. Хочется надеяться, что через столкновение и переосмысление неоднозначных и неустоявшихся дискурсивных практик, спорных проблем и сомнительных решений в России идет поиск новых подходов к изучению ислама, способных раскрыть его созидательный потенциал. Собственно подобная задача является одной из ключевых не только для исламоведения, но и для исламского возрождения, обозначившего актуальную для всего мира социально-преобразовательную парадигму построения такого общества, которое воплощает в жизнь повеления Бога о роде человеческом.