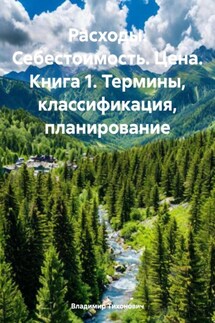Россия в поисках эффективности - страница 28
Воля к экспансии является и средством прогресса. Без экспансии не были бы открыты Америка и Австралия, не освоена Сибирь, не возник бы мировой рынок и т.д. Любое сильное государство – экспансионист. Не обязательно это военная экспансия; экспансия может быть экономической, культурной, религиозной или в сочетании этих направлений. Без экспансии маленькое, незаметное Литовское княжество не выросло бы в великую державу Восточной Европы. Но если правящий класс крупного государства предпочитает спокойную жизнь вместо борьбы, если не стремится или не умеет расширяться, оно начинает загнивать.
Экспансия – это своеобразный тренаж для правящего класса. Средство против дряблости. Те государства, что отказывались от активной наступательной политики, вроде средневековых Китая, Японии, Индии, в итоге сами становились жертвами более напористых конкурентов. Данное суждение не означает, что правящая элита должна бездумно воевать по любому поводу. Оголтелая агрессивность есть прямой путь к поражению и истощению государства. Но в средние века, и вообще в доиндустриальную эру, без военных кампаний нельзя было решить многие насущные политические вопросы. Просто потому, что если не воевал ты, то воевали с тобой. Разумеется, Польско-Литовское государство не исповедовало теорию миролюбия. Оно воевало и с оборонительными целями, и с завоевательными. К блестящим оборонительным сражениям относятся сражение при Грюнвальде в 1410 г. и битва под Веной в 1683 г., когда войско Яна Собесского разбило турецкую армию и спасло Австрию. Пытался правящий класс проводить и экспансионистскую политику. Самый яркий тому пример – попытки посадить на венгерский, чешский, а затем и московский престолы своих представителей. Но, во-первых, эти планы провалились; во-вторых, то были эпизоды в череде довольно бесцветной и в целом малоудачной внешней политики польско-литовского государства.
Как показывает исторический опыт, государство или политический режим с выдохшейся энергетикой не жилец. Польско-Литовское государство (с 1569 г. оно стало называться Речью Посполитой) не сумело реализовать свой потенциал. Итог: расчленение и гибель государства.
Московское княжество, а затем его правопреемница Россия, стали антиподом Литовско-Польского государства не только в сфере внешней политики. Своеобразное соревнование двух объединительных центров Восточной Европы шло и в сфере социального устройства. Москва двигалась по пути самодержавия. В России шел процесс централизации государственного управления и подчинения сословий государственной власти и ее интересам во главе с царем.
На этом фоне Польско-Литовском государство выглядело более привлекательно. В нем возобладала феодальная демократия в либерально-парламентском варианте. Парламент – Сейм – собирался регулярно. Он состоял из двух палат. Как и полагалось в феодальную эпоху, верхняя палата (сенат) формировалась из представителей светской и церковной аристократии – магнатов, нижняя из мелкопоместного дворянства – шляхты. В 1501 г. аристократии удалось добиться принятия так называемого Мельницкого привелея, поставившего королевскую власть под контроль сената. С абсолютизмом было покончено. В 1505 г. шляхта добилась принятия Радомской конституции, по которой новые законы могли издаваться лишь с согласия обеих палат. Сейм стал полноценным законодательным органом. Литовско-Польское государство теперь имело все слагаемые для успеха – огромную территорию, большие потенциальные ресурсы, передовую демократию… Но ничего путного не получилось.