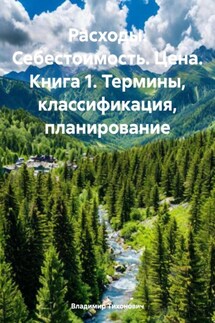Россия в поисках эффективности - страница 30
Для любой развитой культуры, и государства (а наличие государства есть культура политическая и показатель зрелости народа) встает проблема самоиндефикации в виде поиска ответов на вопросы: «кто мы?», «что мы можем?», «куда надо стремиться?» Это приводит к целому вееру ответов в зависимости от интеллектуальных предпочтений людей, ведущих такой поиск, от запросов практики, а так же требований, предъявляемых к ним со стороны власти. Особенно в сложном положении оказывается то государство, которое, после благополучного этапа развития вдруг терпит поражение, столкнувшись с соперником, избравшим другую, презираемую данным государством, парадигму развития. Вместе с поражением возникает осознание необходимости кардинальных перемен, в том числе заимствования у врагов. Тогда общество испытывает не только политический, но и культурный шок. Осознание, что кто-то лучше «нас» вызывает сильную интеллектуальную рефлексию в мыслящей среде общества и у самой власти, которой надо объяснить народу причину своей неожиданной несостоятельности. Ответ дается по одной и той же схеме, будь-то Китай, Япония, Иран или Россия. Ответ на вызов неизбежно расщепляет интеллектуальную часть общества на две основные линии. Одну можно назвать модернизаторскую, другую – самобытническую.
Модернизаторы признают закономерность отставания своего общества от ушедших вперед конкурентов и в качестве главного рецепта предлагают различные варианты перенимания чужого опыта. На этом единство между модернизаторами заканчивается и начинаются расхождения вплоть до абсолютно непримиримых. И впрямь: что может быть общего между такими модернизаторскими течениями, как буржуазные либералы и коммунисты? Проблема усугубляется тем, что все предлагаемые модернизаторами варианты вполне реализуемы по той простой причине, что они опираются на уже имеющиеся образцы. Особняком стояли коммунисты со своей мечтой об идеальном обществе равенства, к которому многие стремились (христиане, мусульмане, утописты светских учений). Однако у власти удерживаются не идеалисты, а прагматики, и прагматизм большевиков заключался в том, что основу общества будущего они видели в таких рациональных вещах, как индустриализация, развитие науки, образования, культуры. И все же, несмотря на модернизаторство, идеология коммунизма – тот случай, когда крайности смыкаются. В своей утопической части коммунисты близко подходят к другой магистральной линии – к «самобытникам».
Самобытники пытаются снять проблему вызова утверждением, что их местная культура уникальна и, несмотря на поражение, значительно выше и ценнее, чем у соперников. Эта «особость» определяется куда более высокой духовностью, чем у противников, что связано с особым качеством национальной (исламской, буддийской, православной, синтоисткой, конфуцианской, тотемной) религиозности. А сам народ и его государство являются носителями особых нравственных, культурных качеств, ставящих их выше врагов-соперников. Вот характерный образчик таких идеологических конструкций, выбранный мной как типичный из коллективного сборника преподавателей Московского университета, рекомендованного, как заявлено на титульном листе, Министерством общего и профессионального образования Российской федерации для студентов в качестве учебного пособия: «Из православия и общинных традиций выросла главная черта русской цивилизации – соборность, т.е. устремление к высшим духовным ценностям, к абсолюту, существующим в единстве Истине, Добру и Красоте (так в тексте – прим. Б.Ш.) и склонность к общественному во всех сферах человеческой деятельности… Отразилась соборность и на национальной культуре труда. В отличие от Запада, где утвердилось формально-догматическая трактовка труда как проклятия Божия (!?), в православии труд рассматривался как нравственное деяние, как одна из форм подвижничества, личного и соборного спасения». И далее: «Русская цивилизация развивалась на своей собственной основе, обусловленной Православием, ландшафтно-экономическими особенностями и полиэтничностью» (8. С.447-449).