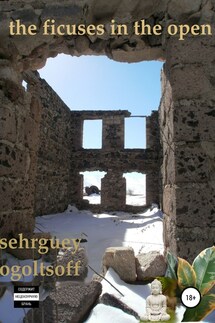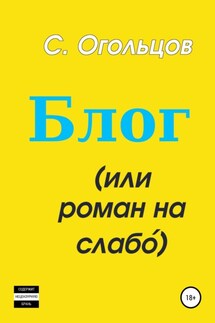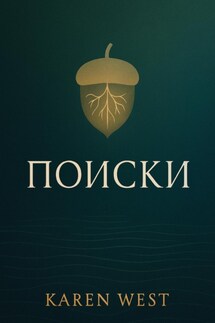Читать онлайн Сергей Огольцов - Российская проза на рубеже 2-го и 3-го тысячелетий
Эпиграф:
[Здесь, взамен куска, традиционно выдираемой из того или иного литератора, предлагается включить воображалу, чтобы ещё раз дать возможность своему умственному взору насладиться картиной В. Васнецова “Богатыри”
Те, кому удалось, – заново обозрейте заголовок данной работы, чтобы на этот раз врубить уже соображальник и придти к выводу: who is who, в конце концов?
Кто из авторов заявленных в названии обзора годится на роль какого из витязей в богатырской троице? Для вящей интерактивности – сравните собственные предположения с выводами автора (предложение касается лишь тех, кто сдюжит дотянуть до обещанных выводов).]
…
Произведение В.
Сорокина 'Норма' с позиций постмодернизма
Введение
а. Обоснование предпринятому труду
До объявления всенародного праздника с неподдельным ликованием или перехода на особое положение с комендантским часом и т. д., сперва надо оценить масштабы ущерба или привалившего счастья. Таков закон логистики. А уж затем переходить к вопросам второстепенным, типа: что делать? кто виноват?
Не претендуя на второстепенности, данный обзор есть попыткой диагностировать состояние Рос Лит-ры на текущий день переломного момента в её судьбе. Чтобы не сильно больно было, при зондировании обещаюсь не проводить сравнений с русской литературой ХIХ века (всех же ведь разделывали как хотели! под орех! не хуже сборной СССР по хоккею век спустя! А эта неповторимая тройка, а? Рогулин, Достоевский и этот… эээ… как его…. ну, в общем).
Короче – приступим.
б. Синопсис
1. Счисление стартовой черты обзора. Определение терминологии. Структура произведения «Норма». Сопоставление «Нормы» с краеугольными романами модернизма и постмодернизма. Содержание частей «Нормы» и эпилога. Технические приёмы автора по ходу производства. К вопросу об отношении «автор – произведение». Причины возникновения «невольного» плагиата. Беспредельная актуальность нормализации.
2. Извечная ирония жизни: исполнение завета Ленина диссидентом Довлатовым. Отношение автора критики к собирательному протагонисту произведения «Заповедник». Неполный перечень составных элементов основного героя. Художественный срез российского общества накануне коллапса СССР. Непригодность средств литературоведения для определения параметров распахнутой души.
3. Разбор глав Книги Года – 2023, «Петровы в гриппе и вокруг него», с попутными определениями плеоназменного письма, нежданной концовки, количественной унификации сегментирования, своевременного контраста, и, среди всего прочего, с выявлением национальных особенностей метода «расщепление личности» в литературных целях.
Предварительные соображения
А оно мне надо?
Согласна заветам российского философа XIX века Н. Фёдорова, от культа которого фанатели не только светочи посторонних культов типа Достоевского с Толстым, но и аз грешный, чьи персонально выстраданные творения всегда распространялись не иначе, как забесплатно. Ещё со времён, когда про Н. Фёдорова ни сном ни духом, его заветы блюл я свято. Как-то само по себе предвосхитилось. Материальных трат не понёс ни один читатель, качавший с первоисточных сайтов (а за франчайзерно-браконьерские капканы на лохов я не ответчик). Автор тоже не пострадал (в смысле расходов на бумагу, покупку галстука и прочий пиар). Да святится имя твоё, Интернет!
Обуревавшие меня идеи прорывались в массы, которым это всё по барабану, в различных формах – повести, романы, публицистика и т. д., а нынче докатился вот и до литературной критики. Должно быть – возрастное уже.
Таковые предпосылки подсказывают мне, преждевременному разделителю идей Н. Фёдорова и, попутно, затяжному фанату литературы, ответствовать на заглавный вопрос предварительных соображений в утвердительной форме.
Да, конечно.
Прежде всего раскроем скобки подзаголовка.
Мыслимо ли парой пунктирных дефисов объять период в 40 лет? Неужто смогут всего-навсего три автора стать отражением безостановочной бумажной Ниагары, что извергается печатными машинами множества издательств? Настолько ли тощими выдались года означенного периода в давно (и по заслугам) прославленной литературе?
Не углубляясь в полемику, отвечу кратко: да. Ещё как, – да!
Во-1-х, после «Острого чувства субботы» Игоря Сахновского, на всё прочее, творящееся на внутреннем рынке Российской литературы у меня как-то совсем даже и не поднимался интерес, – что там и как.
Ну, а до знакомства с ним вообще тем паче, да будет светлое перо пухом всей плеяде Пелее-Солоухо-Пикле-Фандоринских фанерщиков.
Возникающий при этом вопрос о недошлифованных членах разнокалиберных Союзов писателей (критерии образования объединений неисчислимы: от географической принадлежности до возрастных категорий целевой аудитории) несёт внутри себя ответ на себя же. Если внимательно вдуматься.
И уже прицепом (что довольно просто) приходим к умозаключению об издателях, литсотрудниках, критиках, цензорах, менторах – (всё «ах», да «ах», тут тебе не роддом, следи за стилем!) – сюда же можно отнести дипломодавцев, поставщиков сертифицированности, и прочих рыбок-лоцманов, что кормятся на отведенных им глубинах данного поприща, в соответствии со штатным расписанием, из завов, замов, включая персонал их окружения, тружениц бухгалтерии, работников охраны, курьеров, уборщиц… и многих остальных, от кого зависит и на ком зиждется книгоиздательское дело.
Им всем фанера требуется, как воздух. Они же тоже люди! Их теперь в расход, что ли?!
Да, Боже упаси! Не надо делать из меня изверга, я самый благодушный среди социопатов! Пусть заседают, трудятся и ИИ им в помощь – повышать рост читабельности на душу населения среди домохозяек и основного сегмента лохотронутых – нашей молодёжи.
Короче выражаясь, мне претит мостовая из чуждых мне мозолей своих современников, сожителей и сомучеников по данному, прекраснейшему из миров. Вертитесь и дальше с миром.
Ещё короче – за период между Булатом и Игорем в прозе было совсем голО (спасибо Михал Афанасичу за ёмкое определение).
С одной стороны, – жутковато, это ж типа Мёртвого Сезона длиной во многие десятилетия, но с другой – а что поделаешь? Литература, чай, не Бразилия, чтоб ежегодно карнавалиться.
Таких примерно понятий придерживалось моё расхожее мнение до мимолётной беседы с представителем понаехавших из Москвы релокантов, который вскрыл прогал в моей недоинформированной заносчивости, указав автора (Сорокин), а также наименование труда («Норма») и год издания (1983).
Его и взято точкой старта в предстоящем пунктирном обзоре.
. . .
По ходу поиска произведения с намерением прочесть, имели место непрошенные случаи столкнуться с оценками критики – комменты читателей, просвещавших друг друга, пестрели пересказом заключений со стороны дипломированных специалистов касаемо искомого, которых оказалась всего одна и та же пара (не специалистов, а мнений):
1) «Норма» произведена в стиле концептуализма;
2) «Норма» произведена в стиле постмодернизма,
обогатив собой российскую литературу.
(Попадались и более краткие определения, однако беспардонно площадная брань не вписывается в нормы научной терминологии и мировоззренческих установок автора.)
Создавшаяся ситуация требовала разобраться и уяснить, в конце концов, хотя бы для себя – что есть что, прибегая к эмоционально нейтральной критико-литературоведческой традиции изложения.
1) (что есть концептуализм)
Вопреки изначальному намерению отделаться одним только постмодернизмом для рассмотрения творения Сорокина В. Г., автор вынужден был постичь, заодно, суть концептуализма, порою задыхаясь в миазмах, испускаемых данным направлением в искусстве.
Нюхал из элементарного чувства порядочности – куда ни ткнись литкритики, которые помаститее, твердят, как заведённые, что «Норма» и концептуализм неразрывнее, чем "Ленин и партия". Конечно, цитату эту из вертухаевоспевателя они не приводили, но пафосностью – один в один (чтобы не утруждаться лишними сносками к примечаниям, тангенциально брыкнут В. Маяковский, непревзойдённо воспевавшем ментов своей поэмой «Хорошо»).
Совокупность вышеозначенных причин вынудила занюхать полный список произведений концептуализма выложенный Википедией.
А никуда не денешься, выбор довольно ограничен, когда ты уродился правдолюбом, а и к тому же самочинно произвёл себя в инди писатели…
Взятым вкратце, концептуализм, – это открытая канализация, куда кому не лень могут спускать, бросать, валить, сливать и так далее. Откровенная клоака.
Единственное отличие от реально натуральной открытой канализации, – что, тужась в своём творческом акте, концептуал обязан выдать заклинание: «Это мой вклад в искусство!» И – всё.
А после хоть раком становись под коллекционера за 20 000 долларов, как та концептутка из того же списка (Нет в жизни справедливости! Вон за прискочёванный банан 6 миллионов выложили, а тут несчастные 20 тыщ зеленью. И самое обидное, – ты от банана не услышишь: «Это мой вклад в искусство!»).
2) (что есть постмодернизм)
Термин “модернизм” дотянулся до нас из прекрасного далёка конца XIX века, когда литкритики оперились до понимания бесценной пользы бирок/ярлыков на поприще избранной ими профессии.
В те поры словом «символизм» принялись обклеивать отрицание общепризнанного, поиск непроторенных путей, радикальный пересмотр всего бывшего дотоле, использование непривычных форм, и много-много прочих т. д.
Всего одно слово-бирка избавляет от необходимости впрягаться в труд покрытия текстом 3/4 страницы как минимум. Удобно ж, правда?
На появление непривычных, необиркованных явлений литкритика отвечает родами новых терминов. – поэзию А. Рэмбо, например, которая не укладывалась под уже модную тогда бирку «символизм», определили ярлыком “модернизм внутри символизма”. Основная отличительная черта его – это ненормативная, вплоть до явной шизоидности, интерпретация вполне обыденных явлений.
Так, в стихах Артюра головки стеблистой травы трутся, в целях полового удовлетворения, между широко расставленных ног скамейки, которая сверху, и т. п.
Довольно тривиальные симптомы шизофрении, до зевоты известные любому практикующему психиатру.
(Попутно отметим, что терминологические разборки в среде литкритиков составляют неотъемлемую, большую часть их жизненной карьеры.)
Отличительная черта модернизма в прозе (по мнению большинства) – переплетение деталей материальной либо иллюзорной жизни с комментариями, возникающими по их же поводу в сознании наблюдающего/воображающего эти детали индивида. Данному течению присущ раскол повествования на множественно дробные эпизоды.
Классически общепринятым примером модернизма служит «Улисс» Дж. Джойса (долгие годы запрещавшийся, сжигавшийся, топившийся в море, затабуированный для неэлитарных слоёв населения различных англоязычных стран) с тектоническим массивом из 705 страниц текста. Роман был издан в Париже в 1921 г.
Полвека спустя, в 1973, трах по мозгам повторился книгой Т. Пинчона «Gravity’s Rainbow». Модерновый по своей тематике роман не укладывался в рамки “модернизма” из-за отсутствия раздробленно раскольнического изложения. Всего четыре части линейно развивающегося сюжета.
Но как-то и неловко было зачислять “Радугу” в ряды «классицизма», чьи представители вымерли пару сот лет тому.
Однако у литкритики уже имелась отработанная схема и готовый термин, которому, особо не парясь, они прихерячили приставку «пост-», как говориться “на готовенькое”, и отлили расхожую монету хождения в литературоведении: «постмодернизм».