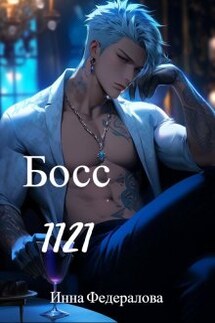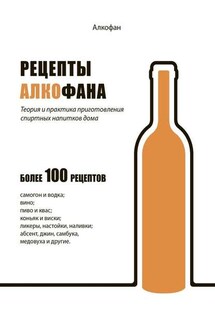Рождение инсталляции. Запад и Россия - страница 19
не являясь ни произведением (эргон), не стоя ни вне его, ни внутри, ни снаружи, ни над, ни под <…> смешивает любые оппозиции, но не остается неопределенным, открывая дорогу произведению. Он не просто окружает его. Он устанавливает инстанции рамы, названия, подписи, легенды и т. д…104
Таким образом, парергон является не частью произведения, но внешним дополнением, которое существенно влияет на «внутреннее» в произведении, что особенно характерно для инсталляции как практики. Помимо этого, отметим, что центральной фигурой для понимания инсталляции в работах контекстуалистского направления (особенно у О’Догерти) выступает М. Дюшан: инсталляция воспринимается как постдюшановская практика, как пространственная форма реди-мейда (spatialization of the ready-made)105, которая «инсталлирует все то, что обычно циркулирует в нашей цивилизации: объекты, тексты, фильмы и т. п.»106. Соответственно, согласно этому подходу, на первый план в проблемном поле инсталляции выходит проблема границы между искусством и не-искусством.
Как отмечает Э. Фишер-Лихте, представление о культуре как тексте, характерное для постструктуралистской философии, в 1990‐х гг. сменилось новой парадигмой, которую можно было бы обозначить следующим образом: «культура как перформанс». Если в модели «культура как текст» культура и различные ее явления понимались как знаковые структуры или системы, которые можно было интерпретировать, используя лингвистические и семиотические модели текстуального анализа, то в модели «культура как перформанс» акцент сместился на действия, процессы производства, создания, делания, процессы обмена и трансформации, а также на культурные события, которые появляются в результате этих процессов107. Соответственно, в фокусе внимания оказывается не коммуникативная функция текста или произведения, но процесс участия, получения опыта и взаимодействия с ним. Именно эта оптика применяется в ключевых трудах по инсталляции 2000‐х гг.: монографиях «Эстетика инсталляции» Ю. Ребентиш и «Инсталляция: критическая история» К. Бишоп, которые относятся к третьему направлению дискурса об инсталляции – «рецептивному» или, собственно, «перформативному».
Таким образом, дискурс об инсталляции развивался параллельно и в некотором роде синхронно с основными тенденциями в философии и гуманитарной мысли ХX века, следуя трем ее главным «поворотам»: феноменологическому, лингвистическому и перформативному.
Проблема определения инсталляции
Помимо прочего, при анализе текстов об инсталляции обращает на себя внимание еще один аспект, главная проблема любого исследования инсталляции – проблема определения, очерчивания границ этого явления, обусловленная характером и обширностью художественного материала. Определение инсталляции вырабатывается в каждом новом труде исходя из поставленных целей и задач и отражает исследовательскую оптику авторов. В настоящем разделе мы рассмотрим проблему определения и некоторые пути ее решения, намеченные в наиболее важных трудах по инсталляции: работах де Оливейры, Райсс, Бишоп, Ребентиш, Петерсен, Садерберг и других исследователей.
Тезис о том, что инсталляция трудно поддается определению или даже в принципе ускользает от любых устойчивых категорий108, сам по себе стал в литературе совершенно расхожим. Характерно, что даже труд «О „тотальной“ инсталляции» И. Кабакова, одного из главных художников, работающих с инсталляцией, причем художника-теоретика, открывается фразами: «Исчерпывающий ответ на то, что такое инсталляция, я дать не могу. Я в сущности не знаю, что такое инсталляция, хотя занимаюсь ею уже много лет с огромным энтузиазмом и увлечением»