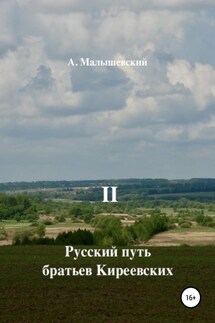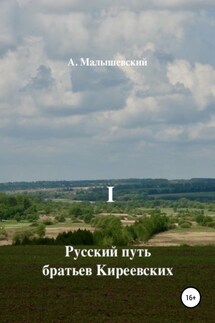Русский путь братьев Киреевских. В 2-х кн. Кн. II - страница 45
<…> Если прежний исключительно рациональный характер Запада мог действовать разрушительно на наш быт и ум, то теперь, напротив того, новые требования европейского ума и наши коренные убеждения имеют одинаковый смысл. И если справедливо, что основное начало нашей православно-словенской образованности есть истинное (что, впрочем, доказать здесь я почитаю ни нужным, ни умственным), – если справедливо, говорю я, что это верховное, живое начало нашего просвещения есть истинное, то очевидно, что как оно некогда было источником нашей древней образованности, так теперь должно служить необходимым дополнением образованности европейской, отделяя ее от ее особенных направлений, очищая от характера исключительной рациональности и проницая новым смыслом; между тем как образованность европейская – как зрелый плод всечеловеческого развития, оторванный от старого дерева, – должна служить питанием для новой жизни, явиться новым возбудительным средством к развитию нашей умственной деятельности. По этому поводу любовь к образованности европейской, равно как любовь к нашей, обе совпадают в последней точке своего развития в одну любовь, в одно стремление к живому, полному, всечеловеческому и истинно христианскому просвещению»214.
Не трудно заметить, что в суждениях о статье М. П. Погодина перед нами был все тот же П. В. Киреевский, знакомый по письмам из-за границы и материалам по национально-освободительному движению, то в размышлениях о лекциях С. П. Шевырева и состоянии литературы – уже иной И. В. Киреевский. Куда-то ушел литературный задор, в мыслях не стало дерзновенности, поубавилось интеллектуальное напряжение. Может, и прав А. И. Герцен, когда оценивает его положение в Москве как тяжелое, когда говорит об утрате им близости и сочувствия друзей. Внимания читающей публики к уже высказанным идеям И. В. Киреевский не находил, а участвовать в бесплодных спорах не желал. Характерно его высказывание, обращенное к Т. Н. Грановскому: «Сердцем я больше связан с вами, но не делю многого из ваших убеждений; с нашими я ближе верою, но столько же расхожусь в другом»215. Но это ни в коей мере не касалось Петра, который всегда оставался и братом, и другом…
Глава VI. Собирание русских народных песен и стихов. Песенная прокламация
1
1830-е – 1840-е годы становятся в жизни П. В. Киреевского периодом активного собирания русских народных песен и стихов. Как уже говорилось, первое свидетельство об этом встречаем в письме А. П. Елагиной-Киреевской от 8 июня 1831 года, посланном из Ильинского. В письме П. В. Киреевского Н. М. Языкову из того же Ильинского, но уже 9 июля 1832 года находим следующие строки: «Славное вы дело сделали, что собрали так много песен, а мне это стыдно, потому что я до сих пор еще не собрал ни одной. Однако и я не отстану и скоро примусь за дело. Ты их лучше не присылай, а привези сам. Главное мое занятие здесь покуда состояло, кроме брожения и того долгого времени, которое ушло так, в переводе шпанской трагедии “El magico prodigioso”