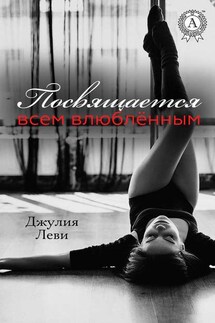Русский реализм XIX века. Общество, знание, повествование - страница 6
В 1990–2000‐е годы на русском языке время от времени выходили работы, написанные в таком русле. Укажем здесь лишь на две книги, представляющие собой, как кажется, наиболее продуктивные попытки возобновить серьезное изучение реализма на русском материале. Книга М. С. Макеева «Спор о человеке в русской литературе 60–70‐х годов XIX века: Литературный персонаж как познавательная модель человека» (М., 1999), хотя и не касается напрямую реалистической репрезентации, ставит проблему повествовательного моделирования человеческой личности в рамках различных радикальных идеологий 1860–1870‐х годов. Опираясь на теории Л. Я. Гинзбург, Л. Гольдмана и К. Мангейма, Макеев показывает, каким именно образом социальные науки о человеке того времени (политическая экономия, физиология, биология, социология Г. Спенсера и др.) и идеологические доктрины (народничество, марксизм) диктовали способы моделирования человеческого поведения, сознания и (не)включенности в историю в текстах Н. Помяловского, В. Слепцова, Ф. Решетникова, Л. Толстого, Б. Маркевича, Н. Чаева, М. Салтыкова-Щедрина, П. Боборыкина и др. Работа Макеева, позволяющая радикально обновить устоявшиеся представления о так называемых «революционных демократах», «революционном движении» и народниках, остается одним из важнейших свидетельств эпохи антидогматизма и методологической свободы 1990‐х в российском литературоведении.
Другая яркая попытка пересмотреть традиционную картину русского реализма принадлежит Е. К. Созиной. Комбинируя в книге «Эволюция русского реализма XIX века: семиотика и поэтика» классический семиотический подход с постструктуралистскими теориями Ю. Кристевой и М. Фуко, исследовательница предлагает рассматривать реализм 1840–1880‐х годов как особую «дискурсивную формацию» со специфической антропологической, этической и эпистемологической моделью человека и исторического процесса, построенной на детерминизме: «Кроме установки на „жизнеподобие“, в систему реалистических конвенций неизбежно вводится принцип детерминизма; мы стремились наполнить его конкретно-текстовым смыслом – показать реализацию этого принципа в структуре повествования». Как резюмирует Созина, уже в романах Достоевского и Толстого жесткая логика социально-психологического детерминизма осложняется «двойной причинностью», а затем и вовсе растворяется «в вероятности любых объяснительных версий поведения чеховского человека»[39]. В этом тезисе легко усмотреть перекличку с идеей В. М. Марковича о том, что вершинные тексты реализма выходят за пределы его поэтики и тем самым проблематизируют ее, – так что реализм оказывается в высшей степени рефлексивным стилем, постоянно переосмысляющим границы и возможности репрезентации.
Стремясь компенсировать дефицит исследовательских подходов к изучению реализма в российской науке, мы остановимся далее на важнейших и наиболее востребованных сегодня проблемных полях в изучении реалистической репрезентации – вопросах социального воображаемого, экономики, естественно-научной эпистемологии и метафикциональности.
Проблемы репрезентации общественных отношений и производства моделей социальности в литературе реализма получили исходное и, пожалуй, наиболее многостороннее освещение в рамках богатой и философски изощренной традиции западного марксизма. Одной из ключевых фигур в этом ряду стал британский философ-культуролог Рэймонд Уильямс. Его книга «Английский роман от Диккенса до Лоуренса» («The English Novel From Dickens To Lawrence», 1970) открывается впечатляющим списком романов, вышедших в Англии на протяжении двадцати месяцев в 1847–1848 годах: «Домби и сын» Диккенса, «Грозовой перевал» Эмили Бронте, «Ярмарка тщеславия» Теккерея, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, «Мэри Бартон» Элизабет Гаскелл, «Танкред» Бенджамина Дизраели, «Незнакомка из Уайлдфелл-Холла» Энн Бронте и др. Задаваясь вопросом об определяющих чертах этого поколения писателей, которое мы привыкли связывать со становлением английского реализма, исследователь считает главной из них интерес к проблемам сообщества.