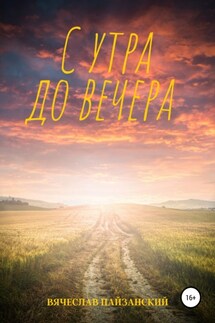С утра до вечера - страница 38
Койранскому было ясно, что явное нерасположение к нему учителей навеяно директором Некрасовым, вопреки воле которого Вячка стал учеником 3-й гимназии.
Товарищи по классу, поляки и евреи, встретили Койранского без симпатии, если не сказать враждебно. Его обращение к ним по-русски вызывало их негодование, так как все русские говорили с ними по-польски.
Но настроение класса резко изменилось в пользу Койранского, когда учитель русского языка разнес его за классное сочинение на тему «Мысли Державина в оде бог». Вячка раскритиковал бездоказательные утверждения Державина, повторившего в оде определения божества по катехизису (учебник закона божия). Он закончил свое сочинение словами: «Стоило ли переписывать катехизис?»
Койранский получил двойку за сочинение, а под жирной двойкой учителя было написано:
«В ваши лета не должно сметь свои суждения иметь!»
Учитель Истрин так разошелся, пробирая Койранского, что назвал его сочинение крамольным, а самого Вячку крамольником.
Само собой разумеется, что инцидент мог иметь печальные последствия, но гимназический священник Божик взял Койранского под защиту, заявив, что бога и благодати божией Койранский не оскорбил, и нечего поднимать шум.
Об этом Вячка узнал значительно позднее.
Теперь же после истринского «благословения», Вячка и все в классе ожидали репрессий. Товарищи подходили к нему, сочувственно жали ему руку и восхищались его смелостью.
С этого дня уважение всего класса было завоевано и завоевание не колебалось до окончания гимназии.
3. Поэзия, бог и новая учительница
Жизнь Койранского в Варшаве стала ему нравиться. Особенно хорошо было ему дома. Он стал писать стихи, сначала выражающие его настроение и мысли, приходившие ему в голову на каждом шагу: о нетерпимости угнетения, о сочувствии полякам в их национальном несчастье, о правде Льва Толстого и неправде, царившей в России в то время. При этом у самого Койранского не было ясного представления о настоящей правде, был мальчишеский протест, не больше.
Вячка с удовольствием показывал стихи брату, но долго не получал от него ни одобрения, ни порицания.
Вячка не приставал с расспросами. Он терпеливо ждал, понимая, что брат наблюдает за ним, определяет его и его убеждения, проверяет на разных случаях. Он думал, что брату не понравились его первые стихи в Варшаве и начал писать следующие, поправлять, по несколько раз переписывать. Уже нельзя было писать стихи в тетрадку, как раньше; Койранский стал писать на листах бумаги и складывать их в папку, нумеровать страницы.
В свою очередь, Вячка начал изучать брата. То ему казалось, что он не больше, чем ограниченный царский чиновник, не очень грамотный, любитель «винта» и выпивки, хоть и добрый малый.
Однажды он заметил на тумбочке, стоящей у постели брата, открытую книгу, на заглавном листе которой было написано: «Что делать?» и ниже: «Для марксистских кружков».
Несколько раз повторилось, что к нему приходили какие-то мужчины, и брат просил Вячку пойти погулять часа на два, а жену выпроваживал к соседям.
Что бы это значило? – размышлял Вячка, но тогда так и не догадался. Но все это заставило Вячку другими глазами смотреть на брата.
Он полюбил разговоры с ним на житейские и философские темы и понял, что его брат – умнейший человек, много видевший и много знающий, хотя простой в обращении и не очень спокойный по характеру.
Он терпеть не мог лжи и часто говорил, что ложь – враг людей, что настанет время и люди отучаться лгать, что правда, как бы она тяжела не была, лучше лжи. И сам он был правдивым. Например, он не прикидывался любящим супругом второй своей жены. Он открыто говорил ей, что женился на ней, не любя, что она нужна ему под старость, как друг и спутник, что продолжает любить свою первую жену, с которой развелся. Это было неприятно его жене, но это была правда.