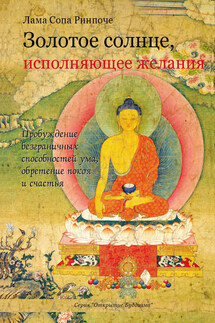Саквояж и всё-всё-всё. Всё, что было в саквояже - страница 34
Имя мастера, Антон Степанович, на самом деле было лишь удобной русской ширмой, за которой скрывался Антуан Леморж – человек поистине удивительной и, как сказали бы романисты, авантюрной судьбы. В Россию он, правду сказать, не стремился, но оказался здесь волею того самого слепого случая, что с упорством маньяка-железнодорожника переводит стрелки на чужих судьбах. В достопамятном тысяча восемьсот двенадцатом году, будучи совсем молодым сержантом Великой армии Наполеона, он получил тяжёлое ранение под Малоярославцем. Что было дальше – сюжет для чувствительной повести, из тех, что дамы в девятнадцатом веке читали, промокая глазки кружевными платочками. Замерзающего, в бреду и горячке, его подобрала Агафья Петровна Смирнова, кроткая дочь местного священника. Выходила она француза, как и полагается в таких историях, травами да молитвами, а как оправился он – так девичье сердце и не устояло перед этим самым хвалёным галльским обаянием. Да и сам Антуан, глядя в глаза своей спасительницы – глубокие и тёмные, цвета тех самых чернил, которыми подписывают не торговые контракты, а брачные свидетельства, – понял, что война для него кончилась и пропал он окончательно и бесповоротно. Так и остался в России, обрусев до неузнаваемости, приняв православие и став Антоном Степановичем Моржовым (фамилия Леморж, как нетрудно догадаться, оказалась не по зубам местному дьячку, человеку, видимо, простому и далёкому от фонетических изысков).
Часовое ремесло, эта тонкая механика на грани волшебства, досталось ему от отца, потомственного часовщика из самого Лиона. Ещё мальчишкой Антуан часами просиживал в отцовской мастерской, пропахшей маслом и канифолью, заворожённо наблюдая за тем, как под умелыми, чуть подрагивающими пальцами мастера оживают, начинают дышать и отсчитывать секунды безмолвные латунные механизмы.
В новом отечестве, которое он полюбил тихо и прочно, Антон Степанович быстро прослыл мастером незаурядным. Его часы были не просто точными хронометрами – нет, это было бы слишком просто для сына лионского часовщика. Каждое изделие, вышедшее из его рук, становилось подлинным произведением искусства. Он создавал часы с курантами, играющими редкие, почти забытые мелодии; часы с движущимися фигурками, разыгрывающими целые сценки; часы с потайными механизмами, о назначении которых знал лишь он один.
«Время – оно как река, – говаривал, хитро прищуриваясь, Антон Степанович, отчего морщинки у глаз его складывались в затейливый узор. – Течёт себе неспешно, да только в каждом омуте своя загадка таится, свой чёрт водится. Вот и мои часы – каждые со своим секретом, со своей душой».
К 1830 году слава о часовщике разнеслась далеко за пределы губернии, словно пух с одуванчиков. Заказы поступали от именитых купцов, от скучающих помещиков и даже от спесивых столичных вельмож. Но подлинной его страстью, его главным экзаменом были напольные часы – эти величественные истуканы, где сложнейшие механизмы прятались в искусно сработанные корпуса из красного дерева, украшенные мерцающими бронзовыми циферблатами и затейливыми накладками.
Говорили, и не без основания, что в каждые такие часы мастер вкладывал не просто умение, но и частичку своей души и своего по-прежнему французского сердца.
К старости Антон Степанович почти не покидал своей мастерской, сросшись с ней, казалось, воедино. Сидел там дни напролёт, согнувшись над верстаком так, что спина его напоминала знак вопроса, и колдовал над очередным механизмом. Его совершенно седая, похожая на одуванчик голова склонялась над верстаком, а морщинистые, покрытые старческими веснушками руки, не утратившие былой твёрдости, продолжали творить свои маленькие чудеса.