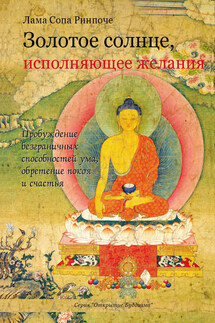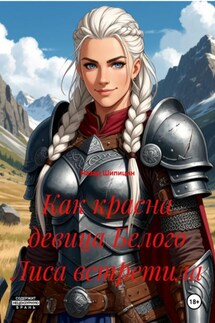Саквояж и всё-всё-всё. Всё, что было в саквояже - страница 8
– Что началось?
– Вам, Виктор, правда интересно?
– Да я только для этого и искал вас.
– Хорошо. Я готов рассказать вам кое-что, но при условии.
– Каком?
– Во-первых, наденете этот галстук. И, во-вторых, прогуляетесь со мной до Таврического сада, – он протянул мне галстук. – Погода, конечно, уже так себе, но для хорошей беседы самое то.
Я взглянул на небо, которое намекало на скорый дождь, но перспектива узнать больше была слишком заманчивой.
– С удовольствием, – согласился я. – К тому же, я вижу, у вас и зонт имеется, на случай дождя.
Он издал смешок. Короткий, сухой, похожий на звук, с которым лопается пересушенная косточка абрикоса.
– Вот и замечательно. Надевайте, Виктор, и не будем испытывать терпение этого замечательного питерского дождя.
Я встал рядом с его коляской, и снова это дурацкое чувство – как у сапёра перед выбором провода. Предложить помощь – и, возможно, оскорбить. Не предложить – и прослыть чёрствым болваном. Он, перехватив мой взгляд, полный метаний Гамлета уездного масштаба, отмахнулся.
– Не стоит, Виктор. Эта повозка умнее иного депутата, сама разберётся. А уж если понадобится грубая мужская сила, чтобы, скажем, перенести её через баррикаду, – я вам свистну.
И мы тронулись. В какой-то момент я поймал наше отражение в запотевшей витрине закрытого на вечный ремонт бара: громоздкое кресло, фигура рядом, серая изморось. Картинка была настолько монохромной и лишённой примет времени, что не хватало только закадрового голоса Левитана, вещающего о досрочном выполнении плана по унынию. Старик катил рядом, и его коляска тихо, басовито жужжала, словно шмель-переросток, заблудившийся в складках его пиджака. И вот это оранжевое пятно галстука на моей шее казалось в этом чёрно-белом кино единственным доказательством того, что цвет в мире всё ещё существует.
– Так откуда у вас эта реликвия, Виктор? – его голос вырвал меня из оцепенения.
– История без всякой поэзии. Наткнулся на старый саквояж в антикварной лавке, – сказал я. – Выгреб мелочь из карманов, купил. А внутри – он. Ну и ещё кое-какой хлам.
– Везенье – та ещё лотерея, – кивнул старик, виртуозно лавируя между трещинами в асфальте. – Мне вот тоже однажды выпал счастливый билет. Это был… да, сорок пятый. Ленинград только-только начал дышать. И судьба определила меня в дворники. Борис – дворник. Согласитесь, звучит как имя персонажа из сатирического фельетона. Разгребая как-то очередные завалы – смесь битого кирпича, обрывков чьих-то жизней и обычного мусора, – я и наткнулся на марку. Крохотный, грязный, прилипший к газетному обрывку квадратик. «И на кой ляд она мне?» – подумал я, но в карман сунул. Знаете, привычка человека, который знает, что любая вещь может когда-нибудь пригодиться. Хотя бы для растопки.
Годы летели. Как спугнутая с карниза стая нетрезвых голубей – шумно, бестолково и в непредсказуемом направлении. Я обзаводился сединой, суставы – артрозом, а желудок – язвой, а марка тихо лежала в старом конверте. Ждала. И дождалась. Мой правнук Мишка, молодой «волк с Уолл-стрит», пришёл клянчить денег на очередной «стартап». Вот тут-то я про неё и вспомнил.
– На, – говорю, – держи. Это покрепче любых акций будет.
Он посмотрел на меня, как врач-психиатр смотрит на пациента, уверяющего, что он – Наполеон. Но конверт взял. Из уважения к возрасту, не иначе.
А через неделю влетает. Без стука. Глаза блестят, как два начищенных медяка, с каким-то лихорадочным, почти биржевым азартом.