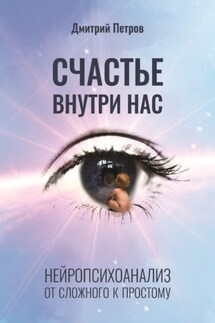Счастье внутри нас - страница 23
Теперь давайте сделаем шаг ещё глубже. В сторону эмпатии.
В мозге человека есть класс особенных нервных клеток – зеркальные нейроны. О них сегодня говорят всё чаще, и, по праву, они занимают почётное место в разговоре о развитии психики. Эти нейроны активируются не только тогда, когда человек сам что-то делает, но и тогда, когда он наблюдает, как это делает другой. Он улыбается, видя улыбку. Он плачет, слыша плач. Он чувствует боль другого человека – телесно, нервно, по-настоящему.
Именно зеркальные нейроны лежат в основе того, что называется взаимной регуляцией. То самое, что делает любовь матери и ребёнка неразрушимой связью, а не просто биологическим инстинктом.
Мама улыбается. Мозг младенца активирует зеркальную сеть, повторяя её эмоциональное состояние – и он тоже улыбается. И в этот момент происходит нечто большее, чем просто мимический ответ. Происходит встреча. Настоящая встреча – эмоциональная, телесная, психическая. Улыбка в ответ – это признание связи, это момент, когда малыш говорит миру: “Я здесь. Ты видишь меня?”
И это важно. Потому что привязанность новорождённого – не просто механизм выживания. Это не банальная зависимость. Это экзистенциальная потребность быть увиденным и признанным. Любовь младенца к матери – сродни самой глубокой форме романтической любви, которую люди способны испытывать во взрослом возрасте. Это не поэтическая метафора. Это физиология. Это фундамент, на котором потом строятся все будущие отношения – интимные, дружеские, даже профессиональные.
И если этот фундамент треснул… если мать не в состоянии быть зеркалом… если она занята собой, своими страхами, проекциями, нереализованными ожиданиями… ребёнок не увидит в её глазах себя. Он увидит её боль. Её тревогу. Её утомлённость. Её отчаяние. Но не себя. И тогда он остаётся без отражения.
Нет зеркала – нет образа себя. Нет связи – нет уверенности, что я есть. А если меня не видят, если я – лишь проекция, я становлюсь брошенным. Даже если физически меня держат на руках.
Это тонко подметил Дональд Винникотт. Он писал: «Мать держит ребёнка, он вглядывается в её лицо… и обнаруживает там самого себя». Но это возможно только в одном случае – если мать действительно видит его. Не того, кем он должен быть. Не того, кого она придумала. А его – беспомощного, уникального, реального.
Если же в её глазах – только её мечты, её тревоги, её предательства и боль… Ребёнок видит в матери её саму. И остаётся невидимым. И тогда он запоминает: «Меня не существует». Именно так рождается эмоциональное одиночество, даже в руках любящей, но не чувствующей матери.
Это не просто теория. Это жизнь.
Когда мать держит своего новорождённого ребёнка, улыбается ему, произносит ласковые звуки – всё это не просто моменты нежности, это архитектура будущей психики. Визуальные сигналы – её лицо, глаза, мимика. Аудиальные – интонация, ритм, тембр её голоса. Обонятельные – её запах, такой родной и безопасный. И, конечно, тактильные – тепло кожи, давление руки, ритм биения сердца. Все эти сигналы формируют определённый паттерн нервной активности в младенческом мозге. Мозг ребёнка, словно музыкальный инструмент, настраивается на мать.
И, что удивительно – те же области мозга, которые задействованы у матери в момент её активности, начинают активироваться у ребёнка. То есть, когда она улыбается – его мозг тренируется на умении улыбнуться в ответ. Когда она гладит – он учится воспринимать прикосновение не как хаос, а как смысловую реальность, наполненную значением: «это приятно», «это я», «это мама», «я есть». Таким образом, мозг ребёнка формируется через взаимодействие. Через многократную, предсказуемую, повторяющуюся стимуляцию от самого важного объекта – матери.